Андрей ГРИЦМАН
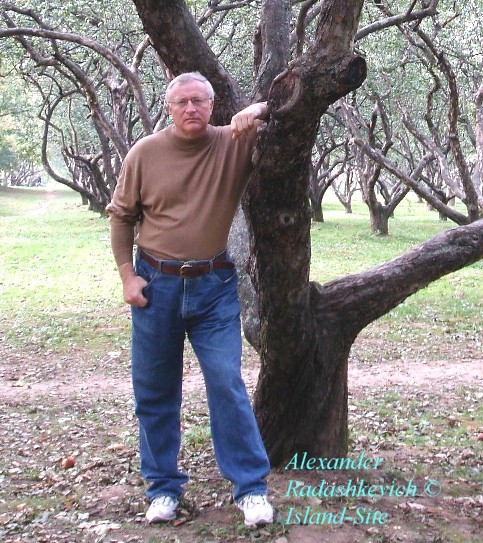
Андрей Грицман в Нью-Джерси.
* * *
Б. К.
Что-то в воздухе там на холмах,
В тех крутых переулках.
Только гости мы здесь на свой страх,
Но без риска как будто.
Если дом покидаешь навек
Безрассудно, безбожно,
Бесшабашно поверив судьбе.
Но потом осторожно
Ищешь снова на ощупь свой дом
В формах нового быта.
Вот в наемной квартире вдвоем,
Бакалея открыта.
Или как его там, зеленная. Потом
С током медленной грусти
Жизнь опять обживает себя
На крутом спуске улиц.
И оттуда бредем мы втроем
Полкэмэ до бульвара
Снеди взять в новый дом
На обед, старый стул с тротуара
В середине пустынной страны незнакомой.
Так становятся эти холмы
Нам безвременным домом.
* * *
Где-то в сознании газгольдеры, черные дыры, аспид нутра,
словно испанки волна мятежных двадцатых.
Кроется где-то рожденье на дне до утра,
Родины дальней верста в цветах полосатых,
в сотках на всех, в набухающих венах дорог,
в небе отечном, нависшем над городом сонным,
где продолжается кем-то отмеренный срок,
но воспрещается вход посторонним.
Я постою, стороной по краю пройду
вдоль государственной, мне неизвестной границы.
Лица родных и друзей поплывут поутру
в свете Господнем, в преддверии тихого сердца.
И не понять, почему же еще невдомек
так далеко на окольном пути Провиденья:
город в тумане, где мы проживаем вдвоем,
где не помогут от грусти эти картонные стены.
ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ РАДАШКЕВИЧУ
ИЗ РУССКОГО МАГАЗИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ
“А вам накатать или писиком?”
Слова летят быстрее мысли
К тебе, прекрасный Александр.
Здесь никогда вас не обвесят.
Глазами пробегаю весело:
Перцовка попадает в кадр.
А там уже Киндзмараули
И Саперави, и Чхавери.
Вот экзистенция, вот – Сартр.
Икорка, как зернистый уголь,
Игривый, маслянистый угорь.
Из морозилки крепкий пар.
А там пельмени и вареники,
В корзинах и лукум, и финики,
А в рыбном карп, как Ихтиандр.
На эмигрантской фене ботают
Две одесситки (обе толстые),
Их губ негаснущий пожар.
О Александр, в газетах здешних
Так много объявлений грешных:
Виагра, девки и массаж.
Но в Бруклин редко водит леший.
Уйду к колбасам я, безгрешный,
Которых больше нету в США.
А водок сколько разноцветных,
То ярко-красных, нежно-бледных,
С акцизной маркой нежный воск.
И связки рыбин безответных,
У кассы дамы полусвета
И “блади мэри” кровный сок.
(кассирши долгий коготок)
На самом деле, Саша, грустно,
Что без тебя мне здесь так вкусно.
Все есть, но где же Солнцедар?!
И захватив грибков, капусты,
Грущу я о тебе и Прусте,
О Радашкевич Александр.
* * *
Все, что заплачено и оплакано,
Все, что заметано и отведено,
Метит судьба нитями белыми,
Словно на шкуре звериной отметины.
Ну и пора, пока зарубцуется,
Дышишь и куришь, чай без сахара,
Ночью тиха непроезжая улица,
В этих местах не нужна охрана.
Не она, ни охранная грамота не надобны.
Морен надолбы, как замка башни.
Пошли мне туда письмо до востребования.
Помнишь, как было в жизни вчерашней.
Ходишь к окошку, смотришь на девушку,
Она стареет от раза к разу.
Пора принять, наконец, решение –
И все разрешится совсем и разом.
А я все жду, может быть, сбудется,
Давно пора смириться с данностью.
Молоко да хлеб, в небе туманность.
Вот стол да порог, вон небесная лестница.
* * *
В субботу напился, в воскресенье закрыто.
Душа помутнела, потом прояснилась.
И стало яснее под пологом быта,
что я не забыл, что ты не забыта.
Ни водка, ни грохот вагонов недели
не заглушают воркующей сути.
Ложишься, глаза закрывая, в постель,
и память стоит у кровати наутро.
И любишь последней любовью, как прежде,
и сердце вслепую плывет на рассвете,
как бледный рассвет плывет по одежде,
в надежде найти на полу под газетой
записку, забытую с прошлого лета.
* * *
Анатолию Кобенкову
«Сестру и брата...» Толя, для тебя
весь мир – сестра и брат. Прикосновенье
прокуренною кистью. Полюбя,
станивишься ты близким на мгновенье,
потом на век. Ты помнишь этот век?
И он прошел, и ты. Вслед за тобой
летят снежинки твоих легких строк
как братский снег за светлой Ангарой.
Так ты и жил: навзлет и на разрыв
и навзничь. Но безумною тоской
наш стол накрыт, когда осенний дым,
плывет над первой павшею листвой.
Как мастерил, как вязью метко плел,
как уходил в себя, собой играя!
Но там сквозил невидимый предел
обманчиво легко, в разрыв по краю.
В пути замерз заморский мой ответ
на стрелы электронных писем ночью.
Тебя предупреждал я о Москве,
когда текли сквозь дым мы общей речью.
Да общей, вот такие, брат, дела...
Той речью мы породнены навечно.
Перекрестись, шевелится зола
и лайнеры в ночи дрожат, как свечи.
Они летят на запад, на восток,
и в никуда. Висят, как те созвездья,
и строк твоих целительный глоток
напоминает, что мы снова вместе,
там, где за сопками – Иродион. Живой Байкал
за Мертвым твердым морем...
Прости меня: чего я наболтал!
Конечно, это горе, Толя, горе.
* * *
Не до свадьбы, но все перемелется.
За стеклом – бесконечна крупа.
Словно в небе воздушная мельница
распахнула свои закрома.
Что-то снег не по времени ранний.
И тогда я себе говорю,
что затянутся свежие раны
к ноябрю-декабрю, к январю.
Вот уеду, и все разрешится:
время лечит, дорога легка.
Хоть к Бахыту, там все ж заграница.
Синий паспорт, не дрогнет рука,
протянув его девушке в форме.
Да, вот так, гражданин USA.
Волка ноги до времени кормят,
отдохну, на дорогу присев,
на транзите, у стойки, у бара,
только там себя и застать
до посадки, и есть еще время
пограничные штампы читать,
где на паспортном фото тревожны,
чьи-то, словно чужие, глаза.
Мы разъехались неосторожно,
так друг другу душой не сказав
ничего. Так, наверно, и надо:
хлопнуть дверью, не загрустив
и как птицу из райского сада –
душу по ветру отпустив.
* * *
Что ты ходишь ночами под светом звезды?
Ищешь что-то: осколки, обломки, гнилушки в распаде осеннем.
Скоро зима, и снега занесут за три дня по колено, исчезнут следы.
Дым от духа святого над домом, согретом и бренном.
Те следы недоступны. Отраженья давно на звезде.
На нее и смотреть и искать очертанья блаженных.
И тогда отлетает с поземкой колючая смерть,
но стоят в карауле шеренги в правах пораженных.
Я гляжу на них через завесу и даль облаков,
через восемь часов, из индейской безродной долины.
Нету там ничего. Ты шершавой замерзшей рукой
ищешь там, где ландшафт расколот на две половины.
Вот так и живем, и усталая совесть, как мать
мягко стелет к полуночи давнюю, донную память.
Несмотря на затишье, нам уже никогда не уснуть.
И равнина мочит, и снега никогда не растают.
* * *
Ал. Рад.
Что ж, говорить на птичьем языке
пришлось. Легло на сердце, в речь,
и не забыть, и крепнет голос, но жить не легче.
Но по-иному и нельзя. Скользит
стезя, косящий дождь летит в лицо и что-то в шуме
нам слышно. Три в уме, а на плечах лишь знаки
отличия, лишь то, что им доступно.
Но, не важно, мы понимаем, что исхода нет.
А путь прекрасен, не знаешь, где присесть,
лаваш и чачу подадут, рядом
с разрушенным заводом. Дар МИГа
мимолетного на бреющем полете.
Мы это видели и все прошло. И ныне мы
за зоной, за периметром их бед
и радостей и лишь всевышний
подарит встречу, может две
иль три, с самим собой на брошенных полях
отъезжих, куда загадочный Макар, все гонит
своих тельцов прозрачных
в густеющем тумане.
2010

Александр Радашкевич и Андрей Грицман. Мюнхен, 29 апреля 2006 г.
Фото Людмилы Агеевой.
|

