НАМ СНОВА СНИТСЯ ЭТА ЖИЗНЬ
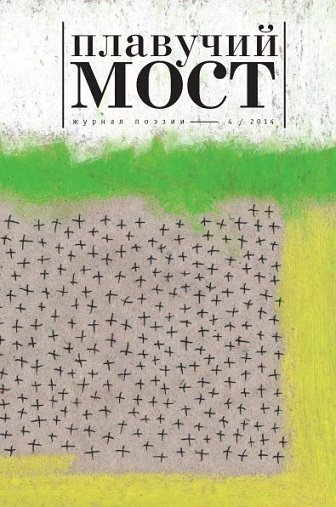
Александр Радашкевич. Поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1950 г. в Оренбурге. Вырос в Уфе. В 70-е годы жил и работал в Ленинграде. Эмигрировал в 1978 г. в США. Широко публиковался в эмигрантской периодике, с 1989 г. – на родине. В 1983 г. перебрался в Париж, где работал в еженедельнике «Русская мысль». В 1991-97 гг. был личным секретарём Великого князя Владимира Кирилловича и его семьи. Автор восьми книг поэзии, прозы и переводов. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века, официальный представитель Международной Федерации русскоязычных писателей во Франции, участник фестивалей поэзии во многих странах. Стихи переведены на английский, французский и сербский языки. Живёт в Париже.
Наталья Горбаневская: «Чем меня при первом же чтении, чуть не пять лет назад, поразили стихи Александра Радашкевича, – это их мелодическим своеобразием. По шпалере русского стиха пустило росток и развязало завязь в разветвление «зерно иной земли». Смещая границы стихоразделов, упрятывая рифмы в разные места строки, применяя несовпадение синтаксической и ритмической паузы во много раз чаще, чем это принято как выделяющий прием, поэт создает не верлибр, но «русский верлибр» – штука, мало кому удававшаяся».
«В зрелых стихах Радашкевича, словно лейтмотив, нередко встречаются два слова рядом: ветреность и верность. Они имеют не одно значение, но, в частности, их можно истолковать как верность поэта его видению, почти миражу России и ветреность, мимолетность, воздушность самого видения, уносимого ветром, но верно и неизменно возвращающегося».
Евгений Евтушенко: «Автор играет самоцветным русским языком с наслаждением, и оно передается читателям».
Галина Погожева: «Цитировать его – дело более чем неблагодарное: немыслимое, по сути, дело – всё равно что выдёргивать нитки из старинного гобелена, которые срослись в одну живую ткань. Недаром он назвал свою первую книгу «Шпалера»: он владеет этим секретом необычайной тонкости работы минувших веков, когда на один такой ковёр уходила целая жизнь художника, а может быть, и не одна. Любая деталь под увеличительным стеклом являет ещё одну глубину, ещё оттенки. В этой многослойной сути чуть ли не бесконечность».
«Серым солдатским глазом, подмечающим тончайшие оттенки, малейшие черты, он смотрит в суть явления, в самую сердцевинку. И этот огромный путь: провинция, где Ленинград казался мечтой, и вот мечта исполнена, и парки – и царскосельский, и павловский, и петергофский, где волны подкатывают под Монплезир, – и дальше, по воле волн: самодовольная Америка, жующая свой неперевариваемый и непереводимый chewingum, и Франция, прекрасная страна, так мало чтящая своих поэтов и королей, где в двух шагах от площади, где вечерами пугает призрак гильотины, я встречу его в доме Великого Князя – и это тоже годы назад, «когда мы только обвыкались с отвычкой жить».
Аркадий Илин: «Радашкевич умеет не только смотреть в прошлое (что для художника вообще и для поэта в частности вещь вполне естественная), но умеет передать и ответный взгляд из глубин минувшего на нас».
Бахыт Кенжеев: «Читая Радашкевича, вначале – радостно замираешь от пронзительного и трогательного мастерства, и только потом с удивлением отмечаешь – а ведь рифмы-то – нетути! Да и с размером некие нелады! И слава Богу. Я рад приветствовать едва ли не единственного русского поэта, которому удалось отказаться от классических оков – но сохранить и приумножить лирическую страсть».
«Я обожаю его ранние стихи о восемнадцатом веке. Сколько за ними кропотливых изысканий в архивах и мемуарах, какое заразительное ощущение тогдашнего русского языка, с которого только снимали загаженные пеленки! Какое могучее – даже в контексте других стихов Радашкевича – чувство цельности, эпичности бытия! Какая жалость к безвозвратному, пускай и приправленная добродушной иронической гримасой! От таких стихов любой может стать монархистом. Но это было давно, юношеское восхищение прошлыми веками миновало. Сегодня поэт сосредоточен, тверд, ясен, трагичен, неизменно трезв. Губы его застыли в улыбке каменного гостя».
«Великолепна наблюдательность поэта. Его стихи об иных местах и иных временах полны убедительных деталей, которые складываются не просто в зарисовку, но в объемную модель мироздания».
Данила Давыдов: «В стихотворениях Радашкевича анжамбеман становится одним из основных приёмов: поэтическое сообщение, подчас нарративное или риторическое, оказывается внутренне расчленённым, что создаёт особую форму поэтического остранения сказанного».
Равиль Бухараев: «Прочел вчера твою книгу – изумительно трепетно и сильно, спасибо! Хочу написать о ней – вот ужо найду несколько спокойного времени. Ты как поэт вызываешь массу не только художественных переживаний и чувств шестого уровня, но и концептуальных мыслей, посему дело это не простое, но крайне вдохновляющее».
«Помню о тебе и твоих стихах. На самом деле я все время порываюсь написать, вернее, изложить на бумаге то, что у меня связано с твоими стихами. И все время какое-то опасение, что скажу не то и не так, как они этого заслуживают. Дело все в том, что ты поэт боговдохновенный, слушающий и слышащий, и столь акварельно-тончайший по слову и чувству, что надо быть внутри твоих стихов и в полном покое, чтобы правдиво писать о них. Надо быть как бы стоячими часами, чтобы точно угадать Твое Время. Вот и жду такого состояния уже много месяцев, надеясь, что дождусь и у меня получится написать не просто рецензию на книгу, а письмена о тебе, ибо этого она заслуживает, твоя поэзия, запечатленности в письменах, а не просто текучки литпроцесса».
Лидия Григорьева: «Может быть, в этом и секрет его, кажущегося равнодушным и бесстрастным, чтения, что он уже все сказал, все вплёл в невесомую словесную ткань. Многие его стихи – это легчайшие натуральные шелка ручной работы. Они для знатоков. Для любителей утонченных, изысканнейших наслаждений. Эти кружева нельзя тянуть за словесную нитку – могут распуститься. Их нужно «носить», ими можно любоваться, ими нужно украшать наш неласковый, потрепанный житейскими бурями и непогодами мир.
На мой взгляд, Александр Радашкевич – прямой наследник нежной живописи Сомова и Бенуа. Жанры «Мира искусства»: буколики, пастели и пасторали плюс исторические полотна русского классицизма, почва из которой произросли многие его, очень инакие, стихи. При этом жар его поэтической страсти спрятан глубоко под красиво расшитыми, орнаментально изысканными одеждами. Но порой прожигает их...»
Вальдемар Вебер: «Читая Радашкевича, совершенно забываешь о размере и рифмах, кажется, что присутствуешь при создании чего-то совершенно необычного, очень непривычного, и в тоже время очень гармоничного, проникаешься ритмом просторного стиха, и думаешь: вот он – белый из белых, как вдруг спотыкаешься на изломе ритма, заставляющего очнуться от опьянения этой иллюзорной плавностью, встряхивающего твое восприятие диссонансом неожиданной метафоры, непредвиденного эпитета или просто детали. Удивительное сочетание элементов традиционного стиха, стиха белого и ритмической прозы и есть волшебная музыка Радашкевича».
«У поэта Александра Радашкевича, однако, исключительное чувство глубины времени. Вот он смотрит на фотографии нашей эпохи и видит, как они на его глазах превращаются в дагерротипы, или видит за вылетевшей из фотоаппарата птичкой грядущее прошлое тех мгновений, что были только что запечатлены на пленке. У него свои отношения во временем:
...Уходит то, что не пройдет,
и остается то, чего не будет...
Или:
И всякий день здесь только память
о памяти, забытой впрок!»
«Ценность поэзии Радашкевича – в её независимости от всех современных течений и манер, её остром ощущении современного русского языка как продолжателя великой традиции, но открытого музыке времени, чуткого к новым звукам. Оттого и эта свобода обращения со словом, помогающая автору создавать разнообразнейшие по форме пьесы. Я имею в виду не пресловутую инновативность, предписанную авангардистами, терроризирующую современное искусство вот уже целое столетие, а независимость творца, осознающего свою особую задачу. Радашкевич знает: то, что он говорит, не скажет никто, и говорит так, как способен только он один. Выражается это в тематике, в лексике, в удивительно музыкальной интонации длинной фразы, не боящейся инверсии, а также в эпитетах – художественном средстве, давно уже начавшем умирать в настоящей поэзии и теперь словно возрожденном в стихах Радашкевича, – эпитетах ёмких, суггестивных, переселяющих предметность в мир таинственной отстранённости».
Нина Зардалишвили: «В целом Радашкевич привнес в современную русскую поэзию элитарные черты, звучание «хрустального клавесина» — естественный изыск, утонченную иронию, элегантную просвещенность, которые, в сочетании со склонностью автора к стилистическим и смысловым парадоксам, к образным перевертышам, оригинальному ритмическому рисунку, представляют собой литературное явление, которое на сегодняшний день по праву можно назвать «стилем Радашкевича».
ВЕЩИ
Разбирать наши вещи, словно шарить
в осколках, кровью срезы пятная; словно
нежить ребёнка, лицом прижимаясь. Разбирать
наши вещи, как кататься по полю, цветы
подминая, как снимать страшный бинт
с незатянутой раны. Это – полки романов,
обломившийся мостик в доживающем парке,
это – в палые листья врыться, теряясь.
Залетая в бестенье, колыхнуть наши звёзды.
Целовать наши вещи. Затекают колени.
9.VI.1978. Пб.
Из цикла ТОТ СВЕТ
ПРЕДБАЛЬНЫЙ СОН, или ПИСЬМО О ПРИЧЁСКЕ
И вот, ма шер, когда по волосам помадой прошёлся бес
в последний, значит, раз, уж было за полночь тогда
и мон амур давно свистел за стенкою в постеле.
Тогда, кушонами с боков уткнувшись, стала
я в креслах дожидаться, чтоб светало. А девки
легонько пели мне, блюдя за наклоненьем головы
и за сползанием хфигуры, которую, скажу, трудов
великих стоило иметь в пепрен... в перпенхуляре.
И тут, шери, увидела я, матушка, себя
и князь Андрей Иваныча - живьём и в крупной зале!..
А роговая музыка гудит! И ленты, ленты по моим плечам,
шнуры косицами, цветущия хирлянды. На подбородке
мушка, значит, выражает: "люблю, да не сыщу",
а на виске - про томну страсть другая. Дальше больше.
Так прямо надо лбом - долины меж холмов и там
овечки милыя и с пастушками рделыя пастушки
расселись в розовых кустах. Натуры вид вершит
спешащий ключ. А птички, мошки, бабочки гурьбой
как раз там носятся. Зело отрадная картина!
Над ней - причудливыя горы, где зрелый муж, в браде лопатой,
в затворе дни влачит, пия там козье млеко, пиша другую свету
Элоизу. Иной удел у гражданина, жадна в пользу
Отечеству свой принести живот. К тому баталия
наведена там кораблей, палящих, мон ами, во смраде
и жупле немилосердно там друг в дружку. И себе
представь обратно наш штандарт на дыбом вставших буклях!
А дале виделось мне так:
когда вошла-то я, на самом на моём верху (надумал
кауфёришка) забрызгали хфонтаны. На Государыни же милостивы
взоры поднялся с громом в небо хфейерверкер и
многая пальба окрест, ма бель, открылась.
Но там уж всё для глаз моих подёрнулось
военным дымом, искрами и лёгким прахом.
Как раз очнулась тут и чую, батюшки, что мухи
обсели мне лицо! Все девки спят как мёртвыя.
Святой Гeoprий! А встать - не встать, прикована как будто
я новой Андромахою к скале. Насилу уж
дотыкалась ногой до девкиной-то морды. Потом я поняла:
халуй треклятый тот мне улеем душистым
представил голову и с цельным роем пчёлок,
трясущихся на вроде как пружинках и крючках. На горе
думочка ушла из-под лица, а мёд как раз полился...
А впрочем будь здорова, мать. Твою я
ласку чую. А объявлюсь, как сделаюсь здорова.
1770-е. СПб. / 3.VIII.1981
РИМ
Мне нечего сказать тебе о Риме, о том,
что кошки утаили, достойно пяля снизу
вверх и янтари и хризолиты, не веря в наши
скользкие личины, бродя по мрамору и
травертину, несытыми хозяевами были. Мне
нечего сказать тебе о Риме, о плоти
сахарной колонн и полых взорах статуй,
которые, верь, в оный день не преминут
нам гаркнуть резкости в захламленное ухо на
гуттаперчевой латыни, притопнув
сокрушительной стопой. Мне нечего сказать
тебе о Риме, пока не проросли на Авентине
мои следы наивною травой, пока из Тибра
швейцарский пёс не выволок брезгливо
за шиворот самоубийцу кроткого, пока
замшелы выи ватиканских пальм. Мне нечего
сказать тебе о Риме: там без меня уже
снуют в обнимку с мёртвыми живые и тянут
пенку капуччино, зеницу ока пряча от греха,
чтоб Божий день насквозь не видеть.
Х.1983. Нов. Гавань
* * *
За опытом бесценного забвенья
друзья уходят в письма, в браки,
в зелье, в альбомный глянец чад,
в отчаянье и хладнодушье, в недуги
и везенья, в могилы и в себя –
из памяти и взора, от оклика и плеч
упавших.
По вечно непросохшим
мостовым, вдоль ртутных рек
недвижного заката они отходят
в зимы... И от холмов нахохленного
парка уже ведёт их след
хрустящий в кристальнейшую
бухту блудных душ.
2.IX.1997. СПб.
ВИВАЛЬДИ, или УДОВОЛЬСТВИЕ
Утро. В парижской мансарде, грешный,
я брился, слушая бодрый концерт « Il piacere ».
За тонкой стенкой пружины заскрипели почти
что в такт, и к финалу второго аллегро
соседка взвыла звероподобно и
возмычал сосед.
И вспомнила душа, как в опере
отшедшей задёргивались занавески лож, как
сыпались потом из них в партер
плебейский куплеты и весомые плевки, как из
каналов шёлковых, зловонных вылавливали
по утрам младенцев вздутые тельца
крюками.
Теперь он спит, тщедушнейший
астматик, в промозгло чуждой Вене
на нищем кладбище больничном. Так
вой, сосед, вопи, соседка, на карнавале
Рыжего Аббата: под клавесин
тоски, под флейту ласки
мы выплываем
в зимнюю лагуну
послушать посторгазменное
ларго.
Кому-то скверно, кому-то славно, но
всё как должно, да, всё как надо у водопада
блаженств барочных – во всех отыгранных,
отлюбленных, во всех
нанизанных мирах.
9.II.1998. Париж
ПАМЯТИ Н.Я. РЫКОВОЙ
В мятных ветрах отбывающей юности, как
и потом – в оскоминные годы, была в судьбе
высокая, с совиным голосом и мигающим
оком рептилии седая Януарьевна, блаженно
спавшая под ранних опусов прыщавое
бубненье и воскресавшая при виде ню Боннара.
Любила сладкое винцо и сулугуни, фарфор,
янтарь, июль по-коктебельски и говорила
«вы» приблудной одноглазой суке, считая
ейный профиль ренессансным. Всё зная и
не веря ни во что, она жила с сафическою
страстью язычницы – без лишней нежности
к безжалостной России и с тихой слабостью
к себе: «Я бы хотела умереть, но не хотела б...
умирать». Как водится на крохотной Земле,
она была бессмертной, хоть верила, что это
всё исполнила по собственной заявке, и,
верно б, вторила за Дюбари на шатком эшафоте:
«Минутку, ещё минутку, господин палач!»
1.II.1999. Париж
УТРО
Высоко над остылой землёй,
в поднебесье, где тоскуют и
помнят о нас наши песни,
разгорается пламенный день
на границе тех миров, где у птиц
сокровенные лица.
Напророчил сей век и слепил
из пустого: только нитка
в руке от плаща золотого,
а от града пиров разлетается
пепел, и врата поснимали
с заржавленных петель.
Но живыми слывём и в конце
той аллеи, где зерно
на ладони живой каменеет,
где тоскуют и помнят о нас
наши песни – высоко над
постылой землёй, в поднебесье.
13.XI.2000. Богемия
НА СМЕРТЬ А. СОБЧАКА
На смерть, на жизнь – внезапны
строчки и непоправимы, как жизнь
и смерть для океана неизменно
мёртвых и острова негаданно живых.
Глава «А.А.» сегодня дописалась и
в оглавление легла: фуршеты, оперы
и ладан панихидный, да на парижской
площади Согласья спор об останках
бедного царя...
От эха преисподней так
гулки коридоры власти, и ненависть
столичного жлобья в них шаркает,
скользя казённым лаком...
Великий князь,
владыка Иоанн, Л.Б. в печали отвлечённой
и Город в толстых стёклах лимузина
под вой положенных сирен: слова и лица,
тосты и деянья, поступки и слова, и
запах душ за тенью взглядов, – и реки
бурной полулжи впадают в море чистой
полуправды.
А в полной книжке записной,
напротив мэрских факсов, ещё помечено:
«У Путина включён всегда».
20.II.2000. Богемия
ПОХОДКА
Есть походка «полагаю», вот
походка «ни за что». Здесь выводит
«сам не знаю», там виляет «всё равно».
Тот вразвалку: «да пошли вы!» Этот
чешет: «вот и мы!» На пуантах –
«даже очень», равнобедренно – «ни-ни».
Семенит лакей усталый, поступь-
сказка у самца. Хошь-не хошь, но
кто-то всучит ту, с которой па
за па вальсик жизни отчубучим
и отшпарим пляски смерти
в постановке Петипа.
26.III.2001. Богемия
АРИЯ
Жизнь. Нам снова снится эта жизнь,
и дней неверных лабиринт
снова ведёт прахом дорог к трём зеркалам,
где из-за спин или сквозь тень
шатких теней краешком уст, как из икон,
как сон во сне последних снов –
жизнь. Нам снова снится въяве жизнь,
и дней текучих тонкий смерч –
ангела перст – нас понесёт боком за край
немых, налитых громом туч,
где ждёт отживший клавесин
звон торжества, час неподдельных мук, где
жизнь. Нам снова снится всуе жизнь
сквозь сети непроглядных дней,
нас отучивших
жить.
14.VII.2001. Уфа
КАКАЯ СКУКА
Какая скука жить, не веря, как верить,
более не ждя. И мясо чьё-то с хрустом
пропускать сквозь незаметившее тело,
и ту же слякотную зиму сносить в окне,
потеющем от скуки. Какая скука – энный
вечерок, разнюненный над пенной Летой.
Всё узнавать, не видя ничего, и видеть
денно, ничего не узнавая. Порхать, умнеть,
хиреть, ложиться и вставать, и умывать
сползающий всё ниже лик, чтоб вежливо
моргать на люд, жиреющий в объятьях
постных скуки. По одному, вдвоём, во сне
о снах иль в переполненной, с утра уже
кишащей поднебесной ступе – какая
скука снова жить и умирать. И умирать –
какая липкая, безвылазная скука.
Какая скука – в мире проскучать десятки
Божьих зим так заразительно, так честно
и не наскучиться ни эдак и ни так, и
не наскучиться, как вешней одурью, никак
земной проникновенной скукой.
XII.2002. Богемия
* * *
Ну, здравствуй, серый град, где та же
гряда барочная петровских облачков,
балетный Ленин на Московском и те
же хохмы хмурых богатеев, и та же
одурь вымокших юнцов, где ту же
слякотную жижу пустые тени вяло
месят с бутылкою насущною в руке, и
лица те же всё свинцовей в провалах
эскалаторной реки. Ты снова по душе
и не по силам снова, бессмертник
каменный, заплаканной душе. Ну,
здравствуй и прощай: глядит в окно уже
дорога огней чужих, и тёплые ключи
сжимают пальцы в пропасти кармана.
Живи, чем жив. Слыви, чем слыл. Спасай,
чем спас. И снись. И помни прошлым
парком обо мне, когда сойдутся статуи
продрогшие молчать у бьющего пургой
в беззвёздный свод фонтана.
Х.2002. СПб.
ЦВЕТЫ
В понедельник нашей жизни
осыпаются цветы, и веточка шиповника,
забытая в стакане, выпускает квёлый листик,
на который так больно смотреть, снег
зависает в стеклянных глазах и дома дымят,
как корабли, над рекою, стремимой вспять
в понедельник нашей жизни,
становятся длиннее и беспомощней молитвы,
и мятый клоун в зеркале разглядывает нас
в упор, улыбаясь нарисованным ртом
и не веря нам, мальчикам-девочкам,
что были мы ими в дни оны, однажды, что
в понедельник нашей жизни
мы вешаем такую же разбитую
улыбку на лицо и, за неё впотьмах цепляясь,
выходим радоваться вслух тому, что
нам до одури постыло, как будильник, как
чёрный кофий с мёртвым бутербродом,
в понедельник нашей жизни
останавливается лифт, на котором
мы поднимались вниз, на котором спускались
вверх столько ненужных и слякотных утр,
столько заваленных рухлядью дней, так
никогда из себя и не выйдя и никогда
в себя не приходя, в понедельник нашей
жизни осыпаются цветы.
2007
СНЫ
Холодная весна на крыше, всё
беспокойства и дела: кот потерялся,
время вышло, и Мордюкова с барабаном
по рельсам на Литейном чешет мимо,
подмигивая мне подбитым глазом.
«Али звёзды воевал? Али волны всё
гонял?..» О, маета! С пустым фанерным
чемоданом тут входишь ты, кого я не
простил, о ком не думаю спросони. Боже!
Я забыл слова, а мне ведь... Ленского!
Аншлаг, и сладко пахнет пудрой. Я
в голосе: «Куда, куу-дааа...» Но зал
молчит и злобно пялится, набравши
в рот воды. Сейчас я им... Ааагонь!
«Сокол, нас окружили! Сокол, бейте
по штабу! Не жа-лей-те снарядов...»
Холодная весна шатается по крыше,
и мир прошили острые дожди, а гроб
стоит зачем-то на могиле, кренясь
чуть-чуть. В нём спит цыган, который
всегда здоровался улыбчиво у лифта,
идя прогуливать визгливую собаку,
пока не раздавил его автобус всмятку.
«Спи-усни, спи-усни...» Я не найду
кота, и улетают самолёты, на которые
нету билетов у захлопнутой кассы, где
табличка «На всё Твоя воля». Мама,
ну за что мы сюда попали? «В няньки
я тебе взяла ветер, солнце и орла...»
Холодная и поздняя весна всё мочит
съёженные крыши, и Мордюкова
с барабаном, а мне пора. Пора.
2008
* * *
Я не вошёл в тот долгий взгляд, где так
желательна погибель, где всё, зачем поэты-
мотыльки срываются в падения-полёты,
зачем скользят безлюбо дни в виду немой
оледенелой Леты и тех зияющих высот, где
мы-не мы глядим в не нам распахнутое небо.
На растяжимом поводке в тот вечер кто-то
под окном выгуливал вдоль моря вечность,
текла по стенам тень теней и свечи душ,
дрожа, коптили. Из отступающих небес, из
набегающих аллей, бессрочных зим и алых
рос в углу, на рваной паутине, я не вошёл
в тот долгий взгляд, где так близка иная даль,
пустой порог, иных ветров благоструенье,
где всё одно, где я не я и ты не ты, где так
желательна погибель, я не вошёл в тот
долгий взгляд и из него уже не вышел.
Батуми, 2011
НАД ЭМИГРАНТСКОЙ ГАЗЕТОЙ
...Если плещется где-то Нева,
Если к ней долетают слова –
Это вам говорю из Парижа я
То, что сам понимаю едва.
Георгий Иванов
В священных недрах библиотечных
вскользь листаю ваши судьбы, но отнюдь
не свысока: умер Буров, умер Бунин,
даже Тэффи померла, блинчики у «витязей»,
ёлочки у «соколов», сборы, лагеря, а
Кшесинская ногу сломала и вернулся
с гастроли Лифарь, панихиды по Государю
и стихи Родиона Берёзова, в «Русском
павильоне» ежевечерне Людмила Лопато,
а Одоевцева чайкой вновь на невских
берегах, ротмистр Говорухо-Отрок мирно
преставился давеча, а Иванов мучился
семьдесят часов, по словам пансионера
дома «Босежур».
Окна в прошлое, пепел надежд и звезда
в накладном кармане. Ручеёк отпетой
жизни с чужеземного обрыва в реку смерти
срывается с вами. А где-то в непрожитых
далях шумит Хрущёв, шагают пятилетки,
растут колхозы, сея кукурузу, заседает
младой комсомол, в Париже то Евгений,
то Булат, но всё не эдак, нет, всё не так,
пока в груди пылится, раздуваясь, разбитый
русский чемодан. В подводных недрах
библиотечных листаю небыль ваших судеб,
и знаю белым знанием предвечных
скитальческих наук: и меня перелистают,
и меня перелистнут.
2014
|

