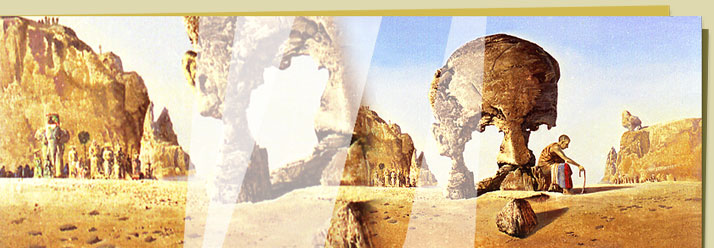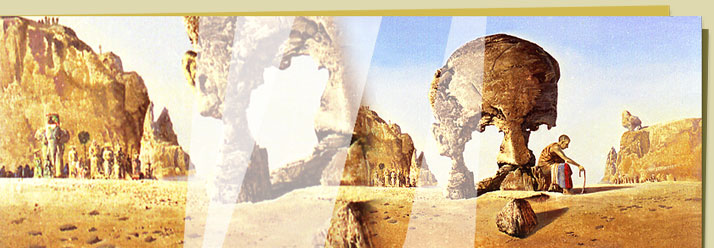Галина Погожева. ВАКАНСИЯ ПОЭТА

По случаю первого снега и выхода в свет нового сборника Александра Радашкевича
Утро первого дня нового года в Париже началось снегом. Воровато, с оглядкой, как проникший без билета, он довольно быстро освоился и повалил хлопьями, оседая на химерах съёжившегося собора, на стеклах изредко проползавших по белой улице машин, на наклеенных серебряных ресницах неописуемого травести в чем-то черно-розовом, еще вчерашнем. И возникло ощущение, что в этом городе есть место под снегом и поэту, и его поэзии. И, как всегда от снега, предчувствие чего-то нового. Мимолетные и обманчивые оба.
Новая книжка Александра Радашкевича, присланная из Петербурга /хотя и называется «Последний снег»/, как будто предвосхищала такой вот день, а может быть и год. Сколько дней уже держались в душе эти стихотворения и медленно опускались, как снежные хлопья. К чему повторять, о чем думет русский поэт в Париже, когда идет снег. А когда его нет, он все равно думает о снеге, и поэтому опять о России. Автор хрестоматийных стихов /которых нет еще в хрестоматиях/, всей своей жизнью заполнявший невидимую анкету : «не был», «не был», «не состоял», «не имею», он помечает свои стихотворения трагическими пунктами скоро уж столетней давности русского исхода : Париж, Богемия, Турция - на этой идущей откатом волне, как будто может дышать только там, где еще едва живы эти тени. Шаг за шагом неосознанно идя по следам тех отступающих в вечность солдат, обещавших вернуться стихами в Россию. Где, по слухам, первый поэт теперь некий Псой, а по другому «рейтингу» - Шиш.
Именно в Париже как раз понимаешь, из какого сора - на фоне каких мелких и тошнотворных будней рвались к высоте строители готических соборов, одухотворенные голодающие Вийон и Рембо, непризнанные мансардные художники в посмертных ореолах из сбивающих со счета сотбисовских нулей...На какой жесткой, шершавой основе покоятся их неподходяще жизнерадостные краски, стихи, музыка.
Утро. В парижской мансарде, грешный,
я брился, слушая бодрый концерт «Il piacere».
За тонкой стенкой пружины заскрипели почти
что в такт, и к финалу второго аллегро
соседка взвыла звероподобно и
и возмычал сосед.
И вспомнила душа, как в опере
отшедшей задёргивались занавески лож, как
сыпались потом из них в партер
плебейский куплеты и весомые плевки, как из
каналов шёлковых, зловонных вылавливали
по утрам младенцев вздутые тельца
крюками...
Невероятно при всем этом зарубежном бытии русский, по-солдатски коротко стригущий свои есенинские кудри /кто-то завистливый не преминул ему заметить: - Неприлично быть таким русским! / - сколько исходил он парижских улиц, навещая, записывая, провожая до последнего порога русских поэтов первой эмиграции Померанцева и Одоевцеву. Или непременно идя поклониться несомому мушкетерами - как настоящими - гробу Александра Дюма. Будь он военным, наверное, получил бы какую-нибуть рутинную медаль типа «За тридцать лет безупречной службы». Странная служба какая – обращать внимание... На то, что стоит взгляда и мимо чего как раз и проходят, спеша, общаясь с нужными людьми, живя... жуя:
В снегу, на ступеньках чужого уснувшего дома
маленький старый небритый чех
сидел, не видя, как носится вокруг и воет
его подросток пёс. Пан слушал звёзды
Пана Бога, смотря обратное кино, где
годы лагерей и каталажек у фрицев,
у своих, где нежит стаю кошек добра пани,
чей прах хранил в шкафу среди бедлама
необходимо-бесполезных вещичек и вещиц...
И вспомнила душа... Давно когда-то, в гостях у Великого Князя Владимира Кирилловича, незнакомый молодой человек с неиспорченным лицом, с неделанной простотой сказал мне : «Я тоже стихи пишу» - и протянул книжку, которая стоит теперь среди самых любимых, и я знаю ее почти наизусть. «Полночи промолчали о России, и ни одна свеча не потекла...» \ «Но я зерно иной земли. Туда приблудшую армаду не изумит, что в гавани сверкает, встречая, алая толпа из королей, из королев...» Какое неблагодарное занятие – цитировать его, то есть отрывать с кровью кусочки плоти упругого, живого, плотного стиха поэта, которому меньше всего подходит неудобоваримое звание «верлибрист», столько в его стихах музыки и беспрекословного подчинения гармонии. Он пишет свободным стихом – когда хочет, - потому что свободен, он и живет то тут, то там , потому что свободен. Но при этой не относящейся к делу свободе - какая предупредительная нежность, вежливость к тончайшим и точнейшим деталям, и офицерская выправка, и верность чудной присяге. И вечный снежный мираж отечества среди разнообразия чужбин...
Над соляной пустыней озера зависнет снежным
островом мираж.
С родней прокатят
в кадиллаках напрокат свежеобрезанные
отроки, подобные лакомым сдобам с глазурью и
изюмом, и чарку ракии в раю своём
сапфирно-изумрудном любовно опрокинет
Ататюрк : буль-буль и гюле-гюле...
...И будет
ластиться эгейская лазурь и бирюза – сквозь
бархатные хляби, и станут русофилы-журавли –
в стерне седой раздумчиво шагать, пока предвечный
хор цикад звенит в серебряных оливах : «велик
Аллах, велииик....» - до первой крови смертного заката
на Мармаре, где, мраморны, где, мармеладны,
струятся Принцевы в томленьях острова.
Одно из его стихотворений, детским почерком переписанное от руки, кочевало в солдатских вещмешках по дорогам идущей, между прочим, в России войны, к которой подросли дети наших ровесников. Оно было опубликовано – кажется, без подписи – в записках юноши, прошедшего сквозь нее.
Когда стряхнет свой сон Россия,
Шатаясь, встанет в рост с колен,
Не поминая долгий плен,
Забьются крылья молодые,
Оставят души смрад могильный,
И взгляды преданных солдат
Вам всем, кто прав и виноват,
Укажут путь простой и пыльный...
В каком смысле «преданных» - этим детям не надо объяснять.
Недаром мои самые любимые поэты из ровесников – дети военных. И Радашкевич, и Седакова, и Кенжеев. Что-то, видимо, передается – отношение к делу, что ли, к жизни в том числе. Определяет каждый выбор, поступок, судьбу. Поэзия – это власть, сказал Мандельштам. А точнее, сила. Поэтому человек и приникает к стихам в несчастии, в минуты отчаяния, и готовое уже сокрушить его зло натыкается на превосходящие силы противника. Поэту плясать гопак на тусовках каких-нибудь сильно новых хозяев жизни не просто не к лицу. А еще и значит – предать. И не только поэзию, но и своего отца. Да и друзей, и детей в придачу. Поэтому Радашкевич и эмигрант.
И все равно, куда бы я ни шел,
оснеженною павловской тропой –
по Моховой, Гороховой, Фурштадтской,
Плуталова, Подрезова, по Ординарной –
из тьмы чужбин я выхожу к Неве,
где финский ветер трогает губами
свирели выпуклых мостов,
где шаг крылат, где юн, как паруса
петропольских закатов незакатных...
Книга Александра Радашкевича «Последний снег» вышла с Санкт-Петербурге в издательстве «Искусство России» под эгидой ЮНЕСКО, с переводами на английский язык Ральфа Бура и прекрасным послесловием Бахыта Кенжеева. Кенжеев - не друг детства, не приятель юности. Поэт, заметивший поэта в изгнании, издалека. Здесь больше чем дружба – родство. Кенжеев, конечно, заметил поразительно четкий перелом в творчестве Радашкевича, траурную новизну последнего сборника: «...юношеское восхищение прошлыми веками миновало. Сегодня поэт сосредоточен, тверд, ясен, трагичен, неизменно трезв.»
И все же
... под
ногой горит и крошится последний
богемский снег, но всё царит над
далью, над веками, как голос музыки,
в которую по юности влетали,
в окне моём, куда текут туманы,
твердыня снов и внятной сердцу яви.
«Русская мысль» (Париж) № 4488 (22-28 января 2004)
«Уфимская жизнь» (июль-сентябрь 2004)
|