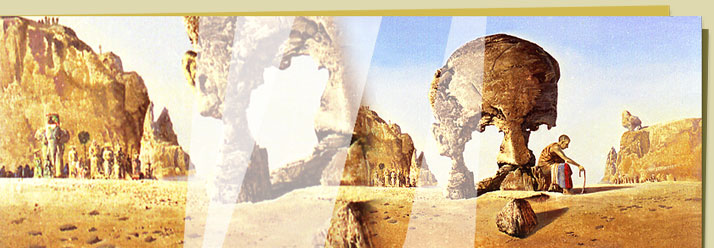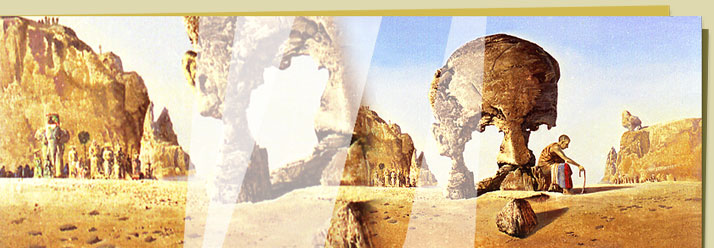Ольга Кравцова. "ВЫШЕ МИРА СВЕРКАЮЩЕГО, ВЫШЕ КЛИРА". Зеркальность проявленного мира в поэтике Александра Радашкевича

«Ажурные стихи» Александра Радашкевича необычны, сразу узнаваемы, а в его идиостиле возможно быстро уловить устойчивые доминантные черты. Лирический диалог света и тени каждый раз звучит иначе, становясь заново рождающейся музыкой – «выше мира сверкающего, / выше клира»[1], оригинальным авторским решением. Время у поэта «мгновение вечности», фиксированный модуль момента, «ветер>множит наши грёзы, а мгновенье – необъятно»[2]. Светотеневую дуальность, воспринимаемую и в стихотворении воспроизводимую, можно обозначить и как двуединство, оно фиксируется словно бы увиденное сквозь некое оптическое устройство, или же, как зеркальное отражение – именно из этого единого момента, фокуса, здесь и сейчас. Так достигается смысловое взаимодействие задуманного и привлеченного в текст автором: событий, явлений, вещей, знаков, эмоций – то есть четко организованного «оркестра» художественно воплощенной жизни и бытия. Есть ли этому название? Ведь, как пишет сам поэт, «для нас, пока не назовем, ничего не существует»[3]. Однако же, там, где присутствует свойство (или действие), есть и определение. Поэтому вышеописанное качество стиха мы назовем «зеркальностью» (вспомним энантиоморфизм – от греч. enantios – находящийся напротив, противоположный и morphe – форма). Сама лексема «зеркальность» в литературоведении воспринимается и толкуется по-разному. Вспомнится и «зеркальная композиция», использующаяся как авторский приём для более глубокого раскрытия замысла. И здесь, как айсберг, выходит на поверхность пласт исследований, касающихся всего зеркального со всей полномасштабной семиотикой, прежде всего «Зеркало» Умберто Эко, затем «Зеркало. Семиотика зеркальности» (Труды по знаковым системам, XXII. – Тарту, 1988). Вспомнится, возможно, «Зеркало» Андрея Тарковского.
Но творческой мастерской Александра Радашкевича всё это касается лишь отчасти. Поэтом реализована интересная и сложная художественная идея, создана цельная поэтика зеркальности, и, опирающийся на литературную традицию, воплощенный замысел всегда оригинален. Это поставит перед исследователем ряд задач, с точки зрения метапоэтики – архетип, мотив и семантически связанные с ним другие мотивы (отражений, эха, тени, стекла, дождя, картины, портрета, двуединства сна и яви).
«Зеркальность» в тексте Александра Радашкевича интересна как авторское восприятие и фиксация момента, как самобытное глубокое качество поэтического характера, как инструмент интуитивного познания мира, способ (метод) передачи и высокохудожественного воплощения мысли, пережитого чувства в рамках оригинального лирического стихотворения. И это особая его сфера, «край», множество раз возникающий перед читателем, детально описанный и проявленный – «где за музыкой дышит молчанье и за небом / не видно земли»; «там, где / жизнью кончается / жизнь»[4]. Феномен зеркальности работает и как авторский прием, ярок на уровне техники, а также в поле образном, смысловом и интерпретационном. А поэтическая традиция в оркестровке стиха звучит утонченно и глубоко. О традиции – близкий в смысловом решении текст мы найдем у Максимилиана Волошина («Потерявшийся в зеркалах», 1915 г.):
Я глазами в глаза вникал,
Но встречал не иные взгляды,
А двоящиеся анфилады
Повторяющихся зеркал.
Я стремился чертой и словом
Закрепить преходящий миг.
Но мгновенно плененный лик
Угасает, чтоб вспыхнуть новым.
Я боялся, узнав – забыть…
Но в стремлении нет забвенья.
Чтобы вечно сгорать и быть –
Надо рвать без печали звенья.
Я пленен в переливных снах,
В завивающихся круженьях,
Раздробившийся в отраженьях,
Потерявшийся в зеркалах.
Эти зеркальные анфилады, воплотившись в поэтическом тексте Александра Радашкевича, ожили и заиграли, получив новое звучание в его верлибре: новаторской идее и образности. Общее интерпретационное поле, и у Волошина, и у Радашкевича, подается как проживание реального опыта, момента жизни, не подвергаемого никаким сомнениям… Подаётся так, что читателю в его подлинности усомниться невозможно.
Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.
Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность пораженья. [5]
Отстранённое и спокойное созерцание, сфокусированное и точное, с присущей поэту строгостью и мягкостью интонации, акварельностью письма и страстностью констатации изначально явилось ярким и узнаваемым индивидуальным авторским стилем.
Ты ушло из моих молитв,
откружившее вьюжное имя,
ты порвало прозрачную нить,
ту, что денно миры сопрягала,
ты задуло ветвистые свечи
по приютным зеркальным
скитам над рекою, которая
мимо океана, который не внял. [6]
А вот стихотворение Волошина «Зеркало», где тема находит «оптическое» решение: «Я – глаз, лишенный век. Я брошено на землю, / Чтоб этот мир дробить и отражать... / И образы скользят. Я чувствую, я внемлю, / Но не могу в себе их задержать». И дальше: «И комната во мне. И капает вода. / И тени движутся, отходят, вырастая. / И тикают часы, и капает вода, / Один вопрос другим всегда перебивая»[7].
Символика зеркал у Александра Радашкевича естественна и органична, пронизана переживанием глубоко психологичным, горестным и одновременно мистическим. Да, жизнь человека в мире есть отражение его внутренних ментальных состояний. И если сознание овладело своею «тайной» – осознанностью предназначения и пониманием определенных законов мироздания, самой сутью жизни, то оно обязательно ее найдет и во внешнем мире – как отражение, как некое свидетельство своей догадки, и может быть, как уже необходимое условие дальнейшего своего пути. И о таком моменте сказано очень точно: «Я знаю, как сидеть в углу, / остолбенело пялясь в угол, как / будто бы из-за угла мы вытянем тенётами / рассвет, и откровение в чело нас влажно / и неспешно поцелует»[8]. Или:
Сей срок разительных ненастий, и
пеней полон сжатый рот,
а полдень утверждает в том, что чем
черней в пироге этой, тем радужней
в гондоле той,
тем мельче след и
сон летучей, а в зеркала –
просторней лаз,
что детство
корчится в падучей, когда
померкнет отчий глаз. [9]
Выразительны мгновения горечи от узнавания, угадывания скорби и трагедии, нечисто прозвучавшей ноты жизни. Но начиналось и возникало, рождалось такое отражение в поэтическом тексте вроде бы издалека.
И ты, кто изменил тишайшим клятвам,
безмолвных слов кто крылья подломил,
со мной послушай на скамье воскресной
всю немоту бурливую весны,
всех птиц ненаступающего лета.
И ты, кто посулил мне столько неба,
сойди со мной в полуденную тьму.
Ни облака, ни вздоха и ни тени
в краю теней, где княжить ныне мне,
где я, как рыба, ртом беззвучным,
глаз не умея закрывать от взгляда,
хватаю воздух радужный апреля,
хватаю воздух, душащий меня. [10]
В этом красивейшем стихотворении очевидна изысканная, просто королевская роль эпитета, выступающего в знаковой оппозиции и «отражающего» противоположное по значению качество к названному поэтом понятию или явлению. Клятвы – «тишайшие», слова – «безмолвные», немота – «бурливая», лето – «ненаступающее», тьма – «полуденная», воздух – «душащий». И ничего сложного, и может быть, особенного, но фокус и угол зрения четок и понятен, и как инструмент в руках мастера – совершенен. Такие оппозиции выступают как взаимосвязанные начала, но это еще и средство систематизации текста. Начиная со строки «Ни облака, ни вздоха и ни тени» в стихотворении становится особенно заметной интонация поэтической традиции Средневековья, рыцарской лирической ноты.
Язык и образ прошлого также рождаются заново, получая свое новое дыхание. Например, вот эпатажные «ажурные стихи» Игоря Северянина («Эго-Футуризм», «Пролог», 1909): «Я облеку, как ночи, – в ризы / Свои загадки и грехи, / В тиары строф мои капризы, / Мои волшебные сюрпризы, / Мои ажурные стихи!»[11]. У Александра Радашкевича эпитет «ажурные» звучит и действует иначе, помогая в создании современного, горького образа сегодняшнего, проявленного мира.
В этом сломанном небе затворяются окна икон
золотые над стадом отключённо-подключённых
со штрих-кодом в пустых глазах, и гламурные
дуры с геморроидальными губами глумливо
пялятся на нас с никогда не гаснущих экранов.
Не нужна ни наша музыка, ни ажурные стихи,
и грешно нам сомневаться, что в человейнике
постчеловеческом необитаемые души
презреют наши имена. [12]
Сами «зеркала» и эпитет «зеркальный», с первых строк книги «Ветер созерцаний» (к примеру) – сразу захватывают и обогащают собою авторскую идею и образ: «зеркальный ветерок», «за зеркалами чёрными дождя», «в чёрном зеркале забытой анфилады», «И в зазеркальном низком гроте», «не верит дымным зеркалам», «на острова снующих в зеркалах», «зеркальный щит», «играющей осколками слепых зеркал», «игрушечный зеркальный чемоданчик», «ласкаемых стеклянными / ветрами в тех зеркалах, / замедленных и пьяных», «теряясь ручейком зеркальным», «француз в зеркальном пиджаке», «в зеркальную бездну», «Юные рыцари в латах зеркальных, девы рассвета / в струистых шелках», «и мятый клоун в зеркале разглядывает нас», «прошлого разбиты зеркала». Как видим, ни один из таких образов ни разу не повторился.
Часто реализация замысла у поэта выглядит будто бы случайным, легким штрихом, но достаточным, чтобы задеть, привлечь внимание, заставить вновь обратиться к уже прочитанному тексту... И внезапно раскрывшаяся мысль поразит правдивостью и точностью образа. Не всякий художник напишет так откровенно, зачем нарушать столь привычный ход вещей? Но честный и преданный идее – скажет, да ещё так глубоко и волшебно. И снова – старинный диалог света и тени.
Да, балом правит тьма,
как в детстве, а мы читаем
дома сказки своей оплавленной
свече. И тех, кто мнит
себя хозяевами света, их
просто нет, как нету нас
для них под нашим небом,
где вечны нестареющие дети
и старики-младенцы, которые,
как водится от века, играют
в жизнь у неба на виду. [13]
Что есть тьма и что есть свет, и кто такие те, «кто мнит себя хозяевами света»? Читателю стоит задуматься об этом.
К вопросу о композиции: феноменальными у поэта представляются строки, рождённые такой светотеневой «зеркальностью» его поэтического видения, дуальностью, интересными триадами. Они варьируются: от простого к более сложному, чаще – от сложного к простому, в зависимости от музыкально-смысловой, иллюстративной, светотеневой проекции и необходимого образа. На уровне формы, в конструкционном построении строфы, в ролевой ипостаси эпитета, в смысловых перекличках авторского «я», в инициациях сна и яви, в монологах. Например: «меня написали стихи неловким, как юность, верлибром»[14], «чтоб стать всем тем, всем тем, чем не был»[15], «которых я тогда выдумывал влюблённо, / когда они придумали меня / на Моховой, Гороховой, на Ординарной»[16]. Для него это, своего рода, «самолёт в обратно»[17], а также феномен фиксированного момента, игра мысли. Поэт сделал такое видение своим художественным методом.
Чисто технически, но глубоко интуитивно, «зеркальность» хорошо передается поэтом в стихах с кольцевым построением строфы: «Если в край посмотришь неба и увидишь шаткий купол / если край поднимешь неба», «Если день смертельно бледный пылью ляжет на ресницы / если день, как этот, бледен», «Если вечер пуст и долог, безжеланный, одинокий /если вечер слишком долог», «Только вспомни ты вначале, только знай, что мир всё тот же / и вольны мы петь и плакать»[18], или в сравнительно небольшом стихотворении – кольцевые начало и концовка: «Там, где маки Ахалкалаки, где бекасы Палеостоми и злое счастье яви / эти маки Ахалкалаки и на кресте озёрном трёх бекасов Палеостоми»[19], Это как раз тот случай, когда форма особенно удачна и служит идее, подчеркивая остроту и мелодику содержания. Обратим внимание, между первым и вторым стихотворением просто огромный период исторического времени, «мгновения времени», точнее – сорок два года (первое стихотворение – 1971 год и второе – 2013 год). Это ещё раз говорит нам о том, что поэт обрёл свое неповторимое «я» и свою поэтическую форму сразу, с первых своих стихотворных опытов, раз и навсегда. В этом предназначении он также ощущает себя мастером, который и «научил не стенать / на прощанье и влюбляться навек, как впервые, над / обрывом предвечной весны, проводил анфиладой / зеркальной отшумевших безмолвно веков»[20].
Две зеркальных ипостаси фиксированного момента – явь и сон.
Сон:
Нам снова снится въяве жизнь,
и дней текучих тонкий смерч –
ангела перст – нас понесёт боком
за край
немых, налитых громом туч,
где ждёт отживший клавесин
звон торжества,
час неподдельных мук, где
жизнь. [21]
Явь:
Однажды мы проснёмся в мире,
где рядом никого из тех, кем мы
клялись и жили, и где нас нет давно
в помине такими, как когда-то нас
любили в том небе, что мы населяли
задолго до себя, проснёмся в голом
сне о нас в смертельных сказках яви,
где, радуясь предвешним пустякам,
вплывая в хоровод развоплощений,
сужающейся щели мы пьём
обратные лучи. [22]
В стихотворении «Однажды» – мы снова видим, что для наблюдателя и говорящего, фиксирующего момент, словно бы нет времени, как в переносном смысле, так и в прямом, если учитывать обыкновенный ход вещей. Между тем, всякая обыкновенность отступает, остается за кадром, ибо начинается пошаговое фиксирование событийного ряда, движения как вечного потока, символического круговорота бесконечности жизни – «сказок яви». Они смертельны и вечны одновременно, их начало и конец соединяются в кольцо вечности. Сознание кружится в этом круговороте, в этом танце мироздания. Оно танцует свой танец, оно ищет себя и угадывает себя в других – «вплывая в хоровод развоплощений». Кто эти другие? Зеркальные отражения из снов и яви? И где все это? «в мире, где рядом никого из тех, кем мы клялись и жили, и где нас нет давно в помине такими, как когда-то нас любили». Поэт всегда говорит очень точно и подробно о том, что его интересует, что становится главным сейчас, почти в каждом стихотворении это констатация – «в том небе, что мы населяли задолго до себя». Он помнит, он знает, он всегда это знал.
Игра сна и яви разворачивается и усложняется. Вот в стихотворении: «Святое небо предвесеннее разрезал клин / безвестных птиц». Невидимой рукой художника сплетается земное с неземным, воплощается и проявляется. Воплощается не красками, а светом и тенью, нездешней своею пастелью. Движение взгляда, движение его фокуса ясно дает понять читателю, что со всей символичностью этого красивого стихотворения следует воспринимать его и буквально. Эти стихи читать лучше медленно, вникая в каждое слово. В первой строке обыкновенность сказанного и увиденного «небо предвесеннее разрезал клин безвестных птиц» – оживляется, призывается или приглашается к реальности одним единственным словом – Святое. Оно дает толчок ко всему действию, или же священнодействию. И дальше уместно буквальное прочтение: «а там, глядишь, и несравненное, и незапамятное там». Звучание строки точно и логично, как в математике, подчинено замыслу. Несравненное и незапамятное – выше всяких возможных реалий бытия, надмирное и неземное, давнее настолько, что представляется чем-то изначальным. А дальше – шаг в неизбежность, к некой исходной точке. Туда, где «неотражённой яви сад»… Если мы рассматриваем отражения в символике поэта как некий проявленный план, уже осуществленный и существующий, то логично предположить, что синтаксическая конструкция «неотражённой яви сад» несет в себе понятие изначально и вечно существующего вне проявлений и отражений сознания. Таким образом, эпитет здесь играет свою роль максимально точного определения – роль творения... Заключением в строфе выступает констатация, напоминающая ее начало: «и расступается зима руинным видом пасторальным на несминаемых лугах». Игра эпитетов в одном только предложении создает зримую и оригинальную, тонко вытканную невидимой работой мысли живую ткань стихотворения. Красота, совершенство, музыкальное звучание текста. Во второй строфе в первой строке та же необыкновенная обыкновенность речи: «Змеится след по бездорожью в прибрежный край», за которой следуют: «порожних снов», «на шелках слепой надежды», «под парусами грешных грёз» открывающее собою пространство неземного. За таким «ключиком» идет и конкретное действие героя, акт творения, создавания слова и мира – «я сопрягаю незабвенность с непредсказуемостью слов». Всему подводит итог красивейшая концовка «и циферблат луны полдневной, как невменяемое время на несверяемых часах». Две выразительные концовки в строфах: «на несминаемых лугах» и «на несверяемых часах» приводят к визуальному и смысловому равновесию… Читателю, даже если стихотворение будет прочитано без особого внимания, они запоминаются невольно…
И вот теперь можно поднять глаза, посмотреть и увидеть, что стихотворение называется «Архаика». То есть, ранний этап в историческом развитии какого-либо явления, что еще интереснее – время сложения монументальных изобразительных и архитектурных форм. Почему же оно так названо автором? Древность? Старина, рождение нового витка жизни? Во всяком случае, перетекание земного визуального ряда в неземной, бытия в небытие воспринимается как наслоение тонких и прозрачных временных слоев и образов, как это происходит в акварельном или пастельном рисунке, соединение которых и придают такую волшебную объемность поэтическому тексту.
Вопросы – почему и зачем – в поэтическом тексте Александра Радашкевича они встречаются часто, можно сказать, что здесь есть некое условие его творения. Собою они фиксируют глубину погружения рефлексии автора, словно сигнал подключения к высшему смыслу бытия – «я» – здесь и сейчас, в моменте, в точке соприкосновения.
И злая радость быть сейчас
и здесь, где время ловко распинает дни
и наводняет вымерзшие ночи
затем, что есть, ты есть, что ждёшь
осиротело и думаешь за зеркалами
чёрными дождя –
зачем. [23]
Свет и тень, явь и сон, мир проявленный – зеркал и отражений – дарит герою и таинство воспоминания, равновесие: «о, чудо белоснежного свеченья, где мне и ветрено, / и нежно, на карте поднебесного томленья / Флоренции отснившийся цветок»[24]. На этой светотеневой, изящной и рыцарской ноте мы пока и завершим наше путешествие к феномену «зеркальности».
Ольга Кравцова
«Эмигрантская лира» (Бельгия), №1(45), 2024
|