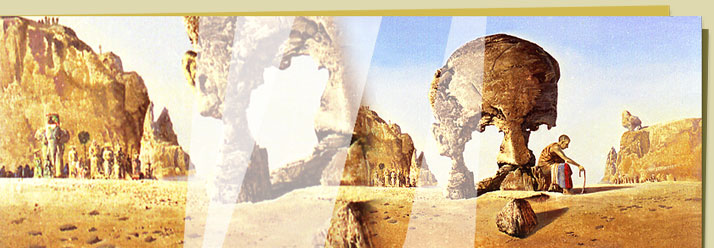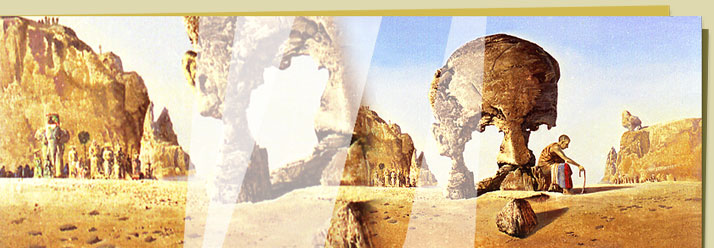Из всех поэтических имен, наиболее известных сегодня, хотелось бы обратиться к поэтике Александра Радашкевича, ибо содержательность художественной идеи позволяет рассматривать его поэтику как истинное новаторство.
Нужно отдать должное необыкновенной интуиции поэта, предвестнице всякого знания. Ведь его мир всегда существовал и существует ныне «в ином» измерении жизни. И словно откровение, дарованное изначально, начиная с самых первых стихов, все общепринятое теряет свои привычные границы и вместо них открывается неведомое прежде пространство жизни, новыми нотами в котором звучит большое внимание поэта к детали, пейзажу, предмету, вещи.
В послесловии к подборке стихов Александра Радашкевича, названной, как и книга, «Последний снег» и опубликованной в журнале «Литературная учеба» Бахыт Кенжеев отмечал: «Великолепна наблюдательность поэта. Его стихи об иных местах и иных временах полны убедительных деталей, которые складываются не просто в зарисовку, но в объемную модель мироздания». Можно и нужно обратить внимание и на другие его слова: «Эти угловатые, сбивчивые, и все же исполненные гармонии стихи тоже обогнали свою эпоху – отчасти, как это ни парадоксально, за счет точного и глубокого чувства истории».
Если время в поэтике Александра Радашкевича, некий фиксированный модуль момента, точка, и образно говоря, результат ментального творения поэта-творца, то и окружающее его пространство – сотворенное им же пространство событий. Пейзаж и/или интерьер в поэтическом тексте представляют собой не менее оригинальное царство отражений. «Одно правило Радашкевич соблюдает строжайше – внутренний пейзаж его стихов никогда прямо не соответствует местонахождению автора». Да, это именно внутренний пейзаж. Это пейзаж-воспоминание, пейзаж-творение, пейзаж-отражение, «ландшафт души» по определению Рильке, в котором постоянны и наиболее проявляют себя одинокость и крайняя индивидуальность переживаемого опыта, при фиксируемой повторяемости внешних событий – абсолютная его неповторимость; наполненность поэтического чувства – наряду со страстностью или печалью – достаточная интимность. В этом свою большую роль играет и убеждение героя о невозможности поделиться своим переживанием, его «не с кем разделить».
«Все ландшафты, что я написал предрассветной смываемой краской» – таинство замысла, метафизичность образа и звучание текста, душевные ноты и их огранка, музыка, эпитет, – вот палитра чуткого и щепетильного мастера. Она не только теснейшим образом связана с невероятным богатством поэтической речи, переживанием и чувством, но и с так характерной для героя и необходимой ему отстраненностью сознания.
В этой отстраненности создается, творится, рождается совершенно новое и неповторимое «я», ментальные образы обретают свою поэтическую форму. Запускается обратный вектор, потому что все, увиденное глазом, создано однажды, создано мыслью, как в творении, «в лунных рунах изжитого света». Именно это и примагничивает читателя.
Новаторство идеи, даже опирающейся на внушительную поэтическую традицию, всегда очень рискованный шаг. И ее мифопоэтические истоки также очень интересны. Феноменальность поэтики Александра Радашкевича как раз в том, что переосмыслив все уже созданное в традиции, он дал ей совершенно новое смысловое решение, свое поле истины. Будто бы из одной растворяющейся вселенной родилась другая, с новой собственной миссией, своим характером и заново сотворенным мирозданием, но – сохранив все прежние краски на каком-то уровне памяти клетки и ДНК. Без неторопливого и вдумчивого прочтения уникальный характер героя так и останется непонятым, неразгаданным, хотя разгадать его до ощутимого конца – дело практически безнадежное… То же самое происходит, когда поэт сам читает свои классическо-модернистские стихи. Задумываются ли слушатели о том, что они услышали?
все повести
без вещего конца, написанные в срок
понурого скитанья по голым городам
земель обетованных, и всё, чего я
толком не посмел, как то, что преуспел
напрасно на пиршестве порочных
виражей необратимых вальсов
узнаванья, все лики, что я всуе
примерял к опавшему лицу, и крылья
из оплавленного воска, что отрывал
от плеч колючий ветер на гребне
отлучаемых столетий
Возникает вопрос: кто же есть это необыкновенное «я»? Это – новое решение архетипа: бессмертной субстанции, способной пребывать между земным и небесным. Будто бы всепроникающий и вечный живой дух. Дух, обитающий везде и во всем, с его многоликостью, крыльями, проплывающими мимо столетьями и временами, словно пронизывающий их. Там, где больше света, туда, где больше любви.
Напомним, что века и столетья здесь не имеют никакого отношения ко времени как последовательности существования, они – места прибытия, отбытия, отъезда, места пребывания, то есть, пространства событий. Для созидающей мысли героя нет границ, для его «архаического» сердца – тем более. Нет никаких ограничений, кроме тех, которые добровольно принимает сознание. Так работают вселенные мастера – и та, что изначально существует, и та, что сотворяется в объемной поэтической ткани.
Зеленый пруд дробит сиянье на мириады
юрких звезд, шуршат плюмажи тополей,
текут века тропой слепою, и наш ландшафт
обетованный последним солнцем к небу
пригвожден
В стихотворении создается смыслообразующая модель: герой – вечен, века – текут. Восприятие пространства отнюдь не как географического: «Там, за стёртым поворотом, покачнётся тот же крест, те же тени вожделений, та же лажа верных слов» переплетается с реальностью как таковой, но также наполненной неким свидетельством внешнего и загадочного бытия/события, как в стихотворении «Измайлово»:
Там московский колючий снежок
парит в гостиничном окне
зашкаливших высот, там тени кроткие
всех тех, кто тронул веки
вскользь своим нагим крылом, там я,
который здесь, за рамой
полых снов, поверивших в себя, там ты,
который я и в кронах
юности пернатой, и в прорве поздних дней.
Мы были в будущем, давно,
в краю родных богов. Звенит такая немота
в заплаканных словах,
такая просинь бьёт в глаза, что аж темно,
темно за бережной порошей
зряшных дней, в окне гостиничном
над стёртою Москвой.
Строка «Мы были в будущем, давно, в краю родных богов» дает читателю возможность для более глубокой интерпретации текста. Понятно, что дух бессмертен и вечен в своих скитаниях, одинок в своих созерцаниях и опыте жизни («неся кристальный крест неданного обета по дюнам песчаных Голгоф»). Мифопоэтика указывает на литературную традицию и ее героев – одиноких странников, разных, и даже демонических. У поэта Радашкевича это «демоны заветной нелюбви», населяющие всю бесконечность мира. Но дух, осознающий свое божественное родство, обитающий в мире зеркальной дуальности, обладающий, в то же время, дуальностью восприятия своего собственного «я» и соответствующим образом себя идентифицирующий: «там я, который здесь»; «там ты, который я» – может рассматриваться как совершенный поэтический феномен. В то же время герой обладает внутренней цельностью, он ищет гармонии, он постоянно в поиске своего, единого поля истины. Или, точнее, в надежде на нее. Но в мире дуальности такое мало возможно, здесь сосуществует черное в белом, а белое в черном. Именно по такому принципу и осуществляется поэтом построение стихотворения. «Дробясь» и «отражаясь», герой един во всем. Именно так он осознает себя, он демонстрирует и констатирует свое сотворчество с мирозданием.
Как обратиться к этому пространству? «Услышь меня, неслышное, призри, необратимое, незримое, завидь». Единый смысловой поток – пространство событий, лиц и ролей, пейзажей и вещей фиксируется и отражается в его сознании (как я и я, между мной и мной). Такая парадигма представляется нам подлинным новаторством.
В стихотворении «Танго» хорошо показана игра этого вечного существования, этого сознания, танцующая пестрота и «рефрен» его вечного бытования.
Поселюсь в архаическом танго, в дрожащих голосах,
заглоченных землёй, в тающем хоре нечаянных
вздохов, в шелковистых котах-тенорах, что участливо
гладят по шерсти, и чернобурых танцорках с рваною
розой в зубах, в перелётных словах вешних встреч
и осенних измен препинаньях, в скользких клятвах
паркета, промурлыканных так мило над надушенным
плечом, загадаю полнеба желаний и разлук лакированный
ад, променяю себя на другого в смертоносных объятьях
рефрена и поверю себе, как все, в аргентинских пазах
обладанья, в ресторанных слезах поутру, в карусели
обманных движений – поселюсь в гуттаперчевом танго,
что в конце пожимает плечами и что лжёт всё смуглей
и желанней, не поведя подрисованной бровью
Сразу обращает на себя внимание то, что речь идет не о перевоплощении, ибо этот дух не ищет себе формы, наоборот, ее здесь очень много, его намерение «поселюсь» направлено в основном на объект бесплотный, на то, что может оставаться неким дыханием самой жизни. Из всего перечисленного плотны могут быть только «коты-теноры» и «чернобурые танцорки», но они здесь больше образы, не имеющие своей индивидуальности, призрачные маски, карнавальная мишура существования. Их много, «променяю себя на другого» и предполагает множественность всего. Таким образом, можно сказать, что он – дух – и есть пространство событий, само в себе, само во всем.
Для нас пребывание «вовне» объемно, время линейно, но для духа они едины, становятся проявителями его сути или сущности. Эмоциональный фон горек и печален, ибо «ложь из самых первых уст» и далее повторение пройденного: «в сотый раз вживаясь слепо в тот же вымученный фильм» сознание героя не видит для себя никакой возможности принимая его – принять, смиряясь – примириться. Он – «Среди рукотворной чумы и особей расчеловеченных в мобильных интер-одиночках».
Замечательна его горькая ирония:
Под шатром плакучего бука не поплакать ли с ним
о себе, и под аркой стриженого тиса не утешиться
ли впрок барочным слепым поцелуем?
Или, совершенно прекрасное размышление о пространстве внешнем, событии совершаемом (здесь и сейчас), и существующем извне:
Нам светят звёзды, которых нет уж
миллионы зим, нам, кого миллионы
не будет. Лишь паладины снов и те,
все те, кому больней, творят себя
самозабвенно для пущей нежности
и зёва чёрных дыр. Всё кончится
в мирах, где не встречали «певца любви,
певца своей печали», где мы проснёмся
мёртвыми сначала на той звезде,
которой больше нет.
Совершенно единство содержания и формы. Три строки в середине стихотворения открывают наиболее точный «механизм» игры энергий тварного мира. По сути, той самой, которую мы увидели в стихотворении «Танго», но с разницею, что в первом игра духа совершается в событийном пространстве земном, а во втором она разворачивается в событийном пространстве мира звезд, содержит интонацию наблюдателя и согласована объединяющими местоимениями «нам», «мы». Развитие этой темы – «за незапамятным небом» – в следующем:
На какой вы таитесь звезде
в перламутровой пене галактик,
что вам смотрит в немое окно, шевеля
проливными лучами на сквозном
полустанке миров, где сомкнутся
зазвёздные грани, в вязком сне о
развеянных снах не привижусь ли вам
отраженьем в анфиладе провальных
зеркал, не прислышится ль вам
по утрам, всех вселенских ночей на
изломе, в фарандоле оплавленных солнц,
ропот сердца, что не достучалось
над терновыми чётками дат? Упадая
в кромешные хляби, нарушая заведомый
лад, этот свет вы давно не узнали б,
как и нас, кто по-детски гадает,
на какой вы томитесь звезде.
Удивительно, но в ткани текста авторская тень заявляет о себе нотой, отдельной от героя, внезапной, чувственной интонацией. Меняя палитру переживаемых чувств, как в подступающей небесной радуге, эмоция перетекает от горечи к нежности:
пришли худые времена, а я
и помнить забываю: в твоём отчаянном
сердечке моё пуховое гнездо.
В общей художественной стратегии можно выделить следующие доминанты: концепт света, мира звезд, водной стихии, сам «край родных богов». Кристаллизуясь в тексте, каждый раз они создают новое ментальное поле близких герою образов, благодаря им происходит процесс узнавания и принятия.
Концепт света – базовый, фундаментальный, на нем строится все большое здание поэтики Александра Радашкевича, им заполнено все его пространство событий. Герой не просто созерцает, ощущает, чувствует, нет, его сознание работает с этим глубоким смыслообразующим понятием:
Сквозил забвеньем алый вечер, за неказистым
поворотом я слабо тронул дверцу света, прикрыв
обратные глаза, под кровом вязов ненавязчивых
поплыла шаткая скамья над дюнами сдуваемого
моря и волнами напененных пустынь
В этом вся прелесть столь оригинального осмысления его бытия – предметность обретают понятия божественного порядка и даже ангельского чина, гармоничного единства пространства богов. Стихотворение называется «Тропа», описание подробно, и каждая деталь дополняет собою идею такого пейзажа-отражения.
Не возжелать,
не возжалеть, но слыть проклятием пустых
благословений. Икать, икать торжественно,
серея на вшивенькой циновке иль на атласных
хладных простынях, чтоб в миг внемирный
у края молча
вымолвить:
Mehr licht…