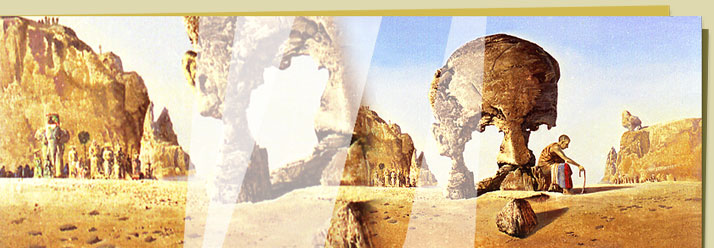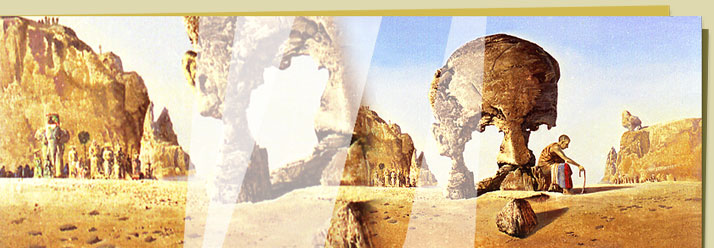Наталья Горбаневская. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Из всех определений, даваемых Далем к слову «шпалеры» (он его приводит лишь во множественном числе), одно только – и как раз не военное и даже не обойное, с которым связано стихотворение, давшее сборнику название, – напоминает эти стихи: «Решетка, для развязки по ней деревьев». Потому что стихи вяжутся, развязываются и развиваются всегда в соответствии с некой, видимой или невидимой, уже существующей решеткой. В соответствии, соотношении, противоречии, отходе от нее. Любой верлибр воспринимается – даже в тех литературах, где он сегодня воцарился самодержавно, – на фоне существующего/существовавшего «классического стиха». И внутри самого этого, давно уже не «классического», развязанного, а по надобности и развязного, мелодия слышна как узор по решетке и против решетки (по шерстке и против шерстки) знакомого: «Мой дядя самых честных правил», – или: «Русалка плыла по реке голубой», – или ближе: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез», – или еще ближе: «Значит, это весна». Автор последней цитированной строчки в наши дни, может быть, больше всякого другого сделал для возникновения, казалось бы, полноты мелодических вариантов русского стиха, после чего сочиняется трудно: все подозреваешь себя, на слух ловишь знакомые попевки и перепевки.
Чем меня при первом же чтении, чуть не пять лет назад, поразили стихи Александра Радашкевича, – это их мелодическим своеобразием. По шпалере русского стиха пустило росток и развязало завязь в разветвление «зерно иной земли». Смещая границы стихоразделов, упрятывая рифмы в разные места строки, применяя несовпадение синтаксической и ритмической паузы во много раз чаще, чем это принято как выделяющий прием, поэт создает не верлибр, но «русский верлибр» – штука, мало кому удававшаяся.
Этот «русский верлибр» не может постоянно не обнажать своего происхождения от классического метра – тем он и способен удержать во внимании русское ухо, на слуху которого все многообразие мелодической развязки деревьев по шпалерам. Часом это подчеркнуто (цитатно и зрительно):
... где кивер зверски набекрень и
ментик с вихрями играет.
Часом постепенное нарастание власти ритма изнутри обращает «корявость» верлибра в мерность метра:
... где сразу ясно нам: то удалялись тополя
от дуба, вдаль, по льду – и льдами же
(метр уже почти обретен, но на него наволоклось тяжелое «дактилическое» окончание, которое никак в прорезавшийся ямб не лезет)
вернулись, а мы глазели в тяжкие
шелка, которыми окинуто полнеба,
которое кривит стеклистая вода,
которая на за нос и водила
по стали льда неверными шагами.
(Прежде обретенный, а тут внезапно перебитый и метр, и ритм пробивается вновь, прилаживаясь, прихрамывая, меняя число стоп и выезжая в конце концов в чистую «классику»).
Но – мелодия, скажут, мелодика, все это «техника», разговор для таких же стихотворцев. Что проку в этом «простому» или, как еще лучше сказать, «рядовому» читателю? Но простой, он же рядовой (он же, так и тянется язык, посконный, сермяжный и т.д.) читатель стихов не существует. В лучшем случае, он думает, что существует. И, например, что он «понимает» Пушкина, а вот нынешних «модернистов» не понимает. Врет (культурнее говоря: самообманывается): и Пушкина не понимает – точнее, не слышит.
Читатель стихов – всегда и «слышатель» их. Надо услышать, как скороговорка:
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
– переходит в растянутое:
Печально подносить лекарство,
– чтобы понять, как это в самом деле «печа-а-ально», с уже заключенной зевотой, которая появится лишь в следующей строке.
Есть нечто, что в советской и досоветской школе называлось «единством формы и содержания», а нынче, по-умному (но и впрямь точнее): «звучание/значение».
Одно и то же ли: «...я вздрагиваю от надлома» – и:
... я вздрагиваю от
надлома пальцев бронзовых...
И читатель вздрагивает от – надлома стиха, здесь случайно – или неслучайно – совпавшего и со словом «надлом», что далеко не всегда обязательно:
... но, повертев в перстах
державных и уведя глаза за
веки...
Застряв на мелодике Радашкевича, я, кажется, почти ничего не скажу о темах, кроме, быть может, остерегающего замечания. Темы свои – скажем, некоторые, более иных очевидные: императорская Россия, старинная живопись, старинный романс, – Александр Радашкевич избирает по любви к этой старине, для него действительно живой. Однако заметим, что события, т.е. сюжеты, избираются какие-то неважные, второстепенные, из частной жизни или полуфантастики, – какие-то слишком не- или внеисторические события для автора-историка. Предположим – а я не предполагаю, а уверена, – что «тему» в стихах Александра Радашкевича следует рассматривать исключительно как музыкальную тему, как тематический материал, в котором все вровень может заиграть: и родное русское, и испанское – португальское, и императрица Елисавета, «средь хора певчих», и «страх заливающей / воды в ушах и слизи трав, смолы / безмолвия...», и разлука (которая есть одна из главных русских лирических тем уж просто потому, что «Разлука ты, разлука» само звучит, нет другого так просящегося в стихи слова), и молчанье (не безмолвие уже, не страх безмолвия – молчанье: «И окно процветает молчаньем»). Так что – не будем о темах, не будем отвечать за поэта на вопрос: «А о чем Вы пишете?» О чем надо – о том и пишет.
|