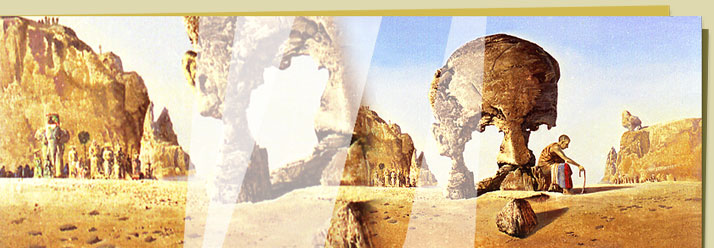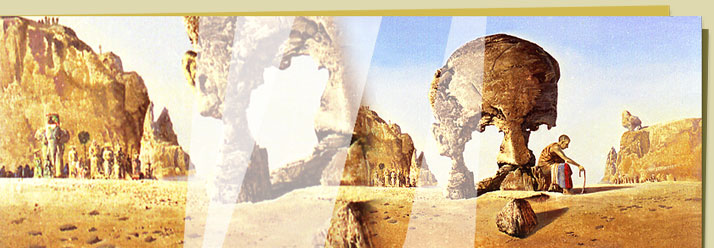ИЗ СТАТЕЙ ОБ АВТОРЕ
Наталья Горбаневская: Чем меня при первом же чтении, чуть не пять лет назад, поразили стихи Александра Радашкевича, – это их мелодическим своеобразием. По шпалере русского стиха пустило росток и развязало завязь в разветвление «зерно иной земли». Смещая границы стихоразделов, упрятывая рифмы в разные места строки, применяя несовпадение синтаксической и ритмической паузы во много раз чаще, чем это принято как выделяющий прием, поэт создает не верлибр, но «русский верлибр» – штука, мало кому удававшаяся.
В зрелых стихах Радашкевича, словно лейтмотив, нередко встречаются два слова рядом: ветреность и верность. Они имеют не одно значение, но, в частности, их можно истолковать как верность поэта его видению, почти миражу России и ветреность, мимолетность, воздушность самого видения, уносимого ветром, но верно и неизменно возвращающегося.
Евгений Евтушенко: Автор играет самоцветным русским языком с наслаждением, и оно передается читателям.
Галина Погожева: Цитировать его – дело более чем неблагодарное: немыслимое, по сути, дело – всё равно что выдёргивать нитки из старинного гобелена, которые срослись в одну живую ткань. Недаром он назвал свою первую книгу «Шпалера»: он владеет этим секретом необычайной тонкости работы минувших веков, когда на один такой ковёр уходила целая жизнь художника, а может быть, и не одна. Любая деталь под увеличительным стеклом являет ещё одну глубину, ещё оттенки. В этой многослойной сути чуть ли не бесконечность.
Серым солдатским глазом, подмечающим тончайшие оттенки, малейшие черты, он смотрит в суть явления, в самую сердцевинку. И этот огромный путь: провинция, где Ленинград казался мечтой, и вот мечта исполнена, и парки – и царскосельский, и павловский, и петергофский, где волны подкатывают под Монплезир, – и дальше, по воле волн: самодовольная Америка, жующая свой неперевариваемый и непереводимый chewingum, и Франция, прекрасная страна, так мало чтящая своих поэтов и королей, где в двух шагах от площади, где вечерами пугает призрак гильотины, я встречу его в доме Великого Князя – и это тоже годы назад, «когда мы только обвыкались с отвычкой жить».
Аркадий Илин: Радашкевич умеет не только смотреть в прошлое (что для художника вообще и для поэта в частности вещь вполне естественная), но умеет передать и ответный взгляд из глубин минувшего на нас.
Бахыт Кенжеев: Читая Радашкевича, вначале – радостно замираешь от пронзительного и трогательного мастерства, и только потом с удивлением отмечаешь – а ведь рифмы-то – нетути! Да и с размером некие нелады! И слава Богу. Я рад приветствовать едва ли не единственного русского поэта, которому удалось отказаться от классических оков – но сохранить и приумножить лирическую страсть.
Я обожаю его ранние стихи о восемнадцатом веке. Сколько за ними кропотливых изысканий в архивах и мемуарах, какое заразительное ощущение тогдашнего русского языка, с которого только снимали загаженные пеленки! Какое могучее – даже в контексте других стихов Радашкевича – чувство цельности, эпичности бытия! Какая жалость к безвозвратному, пускай и приправленная добродушной иронической гримасой! От таких стихов любой может стать монархистом. Но это было давно, юношеское восхищение прошлыми веками миновало. Сегодня поэт сосредоточен, тверд, ясен, трагичен, неизменно трезв. Губы его застыли в улыбке каменного гостя.
Великолепна наблюдательность поэта. Его стихи об иных местах и иных временах полны убедительных деталей, которые складываются не просто в зарисовку, но в объемную модель мироздания.
Данила Давыдов: В стихотворениях Радашкевича анжамбеман становится одним из основных приёмов: поэтическое сообщение, подчас нарративное или риторическое, оказывается внутренне расчленённым, что создаёт особую форму поэтического остранения сказанного.
Равиль Бухараев: Прочел вчера твою книгу – изумительно трепетно и сильно, спасибо! Хочу написать о ней – вот ужо найду несколько спокойного времени. Ты как поэт вызываешь массу не только художественных переживаний и чувств шестого уровня, но и концептуальных мыслей, посему дело это не простое, но крайне вдохновляющее.
Помню о тебе и твоих стихах. На самом деле я все время порываюсь написать, вернее, изложить на бумаге то, что у меня связано с твоими стихами. И все время какое-то опасение, что скажу не то и не так, как они этого заслуживают. Дело все в том, что ты поэт боговдохновенный, слушающий и слышащий, и столь акварельно-тончайший по слову и чувству, что надо быть внутри твоих стихов и в полном покое, чтобы правдиво писать о них. Надо быть как бы стоячими часами, чтобы точно угадать Твое Время. Вот и жду такого состояния уже много месяцев, надеясь, что дождусь и у меня получится написать не просто рецензию на книгу, а письмена о тебе, ибо этого она заслуживает, твоя поэзия, запечатленности в письменах, а не просто текучки литпроцесса.
Лидия Григорьева: Может быть, в этом и секрет его, кажущегося равнодушным и бесстрастным, чтения, что он уже все сказал, все вплёл в невесомую словесную ткань. Многие его стихи – это легчайшие натуральные шелка ручной работы. Они для знатоков. Для любителей утонченных, изысканнейших наслаждений. Эти кружева нельзя тянуть за словесную нитку – могут распуститься. Их нужно «носить», ими можно любоваться, ими нужно украшать наш неласковый, потрепанный житейскими бурями и непогодами мир.
На мой взгляд, Александр Радашкевич – прямой наследник нежной живописи Сомова и Бенуа. Жанры «Мира искусства»: буколики, пастели и пасторали плюс исторические полотна русского классицизма, почва из которой произросли многие его, очень инакие, стихи. При этом жар его поэтической страсти спрятан глубоко под красиво расшитыми, орнаментально изысканными одеждами. Но порой прожигает их…
Александр Мельник: Александр Радашкевич остаётся верным выработанному им индивидуальному стилю «интуитивного верлибра», более известному в поэтических кругах как «стиль Радашкевича». Поэт, шестым чувством избегающий «укачивания-убаюкивания «правильного» размера, которое уже никто не воспринимает, в которое невозможно вместить нашу бесформенную эпоху», в одном из стихотворений («Про стихи») иронизирует над тем, что «люди любят стихи, / похожие на себя, содержащие полезные / советы и практичные утешения / в бытовой любви и / дрессированной / грусти…». Просодия Радашкевича основана на продуманной разбивке стихотворного текста частыми анжамбеманами на строки-пазлы, выстраивающие причудливую мозаику стихотворения таким образом, чтобы при чтении внимание обращалось не на форму и ожидаемые рифмы (которых в верлибрах автора практически нет либо же они сугубо внутренние), а на содержание текста. Таким образом, читатель остаётся в постоянном напряжении, которое компенсируется удовольствием от осязаемого контакта с чистыми и музыкальными словами автора. К такому неторопливому погружению в иной поэтический мир в наш век скоростей готовы далеко не все любители поэзии, поэтому «ажурный» «стиль Радашкевича» остаётся довольно элитарным явлением русской словесности. Сам поэт подчёркивает сходство своей манеры версификации с чисто интуитивным написанием музыки композитором. В стихотворении «По прочтении дневников», посвящённом Ю. Кублановскому, он не без гордости пишет о своей непохожести на поэтов мейнстрима: «…Не надо рыпаться: мы не / в формате. Мы не в формате, / слава Богу…».
Виталий Науменко: Радашкевич нечасто выпускает книги, но каждая из них – событие. Поэтому я пишу о той, которая вышла несколько лет назад. Нельзя сказать, что он не меняется. Его привязанность к верлибру очевидна. Но этот верлибр очень необычен. Он нашел в нем такие пути, которыми никто не ходил, из прозы перенес его в чистую поэзию, что для достаточно сложного жанра – редкий случай.
Это поэт не претенциозный, не эстрадник. Разумеется, он не пишет для себя, он пишет для тех, кто готов его услышать. Я уверен, что таких читателей немало. Всегда интересно разбираться в хитросплетениях его очень камерной и одновременно лиричной поэзии. Со временем она тоже взрослеет, и те, кто знает его ранние стихи, это ощущают. От поэта, «плетущего кружева», читаемого филологами, он пришел к стихам более теплым, оставаясь самим собой. Радашкевич из тех поэтов, кого ни с кем перепутать невозможно.
Вальдемар Вебер: Читая Радашкевича, совершенно забываешь о размере и рифмах, кажется, что присутствуешь при создании чего-то совершенно необычного, очень непривычного, и в тоже время очень гармоничного, проникаешься ритмом просторного стиха, и думаешь: вот он – белый из белых, как вдруг спотыкаешься на изломе ритма, заставщего очнуться от опьянения этой иллюзорной плавностью, встряхивающего твое восприятие диссонансом неожиданной метафоры, непредвиденного эпитета или просто детали. Удивительное сочетание элементов традиционного стиха, стиха белого и ритмической прозы и есть волшебная музыка Радашкевича.
У поэта Александра Радашкевича, однако, исключительное чувство глубины времени. Вот он смотрит на фотографии нашей эпохи и видит, как они на его глазах превращаются в дагерротипы, или видит за вылетевшей из фотоаппарата птичкой грядущее прошлое тех мгновений, что были только что запечатлены на пленке. У него свои отношения во временем: «…Уходит то, что не пройдет, и остается то, чего не будет…» Или: «И всякий день здесь только память о памяти, забытой впрок!»
Ценность поэзии Радашкевича – в её независимости от всех современных течений и манер, её остром ощущении современного русского языка как продолжателя великой традиции, но открытого музыке времени, чуткого к новым звукам. Оттого и эта свобода обращения со словом, помогающая автору создавать разнообразнейшие по форме пьесы. Я имею в виду не пресловутую инновативность, предписанную авангардистами, терроризирующую современное искусство вот уже целое столетие, а независимость творца, осознающего свою особую задачу. Радашкевич знает: то, что он говорит, не скажет никто, и говорит так, как способен только он один. Выражается это в тематике, в лексике, в удивительно музыкальной интонации длинной фразы, не боящейся инверсии, а также в эпитетах – художественном средстве, давно уже начавшем умирать в настоящей поэзии и теперь словно возрожденном в стихах Радашкевича, – эпитетах ёмких, суггестивных, переселяющих предметность в мир таинственной отстранённости.
Алексей Кривошеев: Как быть, если поэт-изгой принимает и продолжает то, от чего поэзия нынешнего плебса отвернулась, чего не в силах вместить его (плебса) орущее тело? И как донести поэту своё слово, если он отвергает, не заигрывая, то, что так любо сегодня читателю плебса и чем брезгуют даже крылатые насекомые, бабочки-шоколадницы? Ведь они и символизируют те чистые и ослепительные – вечные, надмирные мгновенья души, ощутившей своё бессмертие как несовместимую, не рифмующуюся с нынешней, небесную Россию Радашкевича.
Дмитрий Бобышев: Но, что ни говори, а скованный Прометей стремится порвать свои цепи. Верлибр – это свобода. Это – современность или, по крайней мере, одно из её воплощений. Но это и культурный контекст с тем, что происходит в жизни вокруг, в особенности, если ты уже оказался на Западе и задался целью стать ему созвучным. Это тоже оправдание верлибра, но в его русском, эмигрантском изводе. Действительно, надо окунуться с головой в иной язык, быт, стиль, ритм, чтобы сочинить такие парижские, такие русские стихи, как вот эти под названием «Искусство жизни», записанные Александром Радашкевичем в его «дорожный томик».
Алексей Филимонов: Метафизическая тайна поэзии состоит в её музыкальности, в неповторимой интонации. Это утверждение было бы общим местом, ибо критики и читатели считают главной чертой поэзии Александра Радашкевича именно её музыкальность, что отмечает и сам поэт в интервью, словно перефразируя строки Георгия Иванова: «И музыка. Только она Одна не обманет». Но загадка остаётся загадкой, и благоухание строк современного поэта объясняется не только выверенным и порой кажущимся причудливым порядком слов, иногда редких, анжамбеманами и свободой от привычных рифм, но неким свечением, исходящим из самих глубин поэтического духа. Муза поэта может быть и резкой, и приободряющей, и отрешённо-проникновенной, но всегда её речь находится обочь бытовой интонации. Чтобы познать, что такое сегодня лира эмиграции, следует прежде всего обратиться к творчеству А. Радашкевича, вбирающему времена и страны.
Даниил Чкония: Первое впечатление читателя, дотоле незнакомого с творчеством Радашкевича, вызывает полную растерянность: плотно спрессованный текст, где нет ритмических зазоров, где строки не завершают фразу, предложения не отделены одно от другого, цезуры располагаются то в начале строки, то в конце её. При этом чувство стихотворного размера вполне ощутимо, традиционно белый стих срывается в мельканье рифмы, похожей на внутреннюю. Стих полнозвучный, густо аллитерированный, образный и метафоричный. Стихотворный размер меняющийся, возвращаясь к прежнему. Стихотворная речь наполнена экспрессией. И для читателя, уже обращавшегося к поэзии автора, сразу узнаваемый в своей неповторимой интонации. Разумеется, такие стихи, задыхающиеся в рамках системы, рвущиеся на свободу, перетекающие от одного образа к другому, представляют собой настоящий поток сознания. Иногда они кажутся неконтролируемым движением, передающим состояние, настроение, переживание. В другом случае это размышление, осмысление, процесс которого отражается в тексте.
Цитирование Радашкевича всегда осложнено – трудно выделить какой-либо блок отрывок, невозможно вырвать его из контекста. А секрет в том, что большинство стихотворений поэта представляет собой законченный период. Стихи эти выплеснуты на одном дыхании. У нашего автора стих ведёт поэта за собой, одному ему ведомыми путями, и автор доверяется этому движению, зная, что в другом случае он ведёт стихотворную нить своей волей, и стих подчиняется ему. Верлибр перетекает в ритмизованный белый стих, меняющий свой размер, прозаизм набирает высоту образной стихотворной речи, а по всему полю стихотворения пробиваются рифмы: внутренние на цезуре, парные, перекрёстные, звучные и точные, усечённые и ассонансы – звучит поэзия…
Нина Зардалишвили: В целом Радашкевич привнес в современную русскую поэзию элитарные черты, звучание «хрустального клавесина» – естественный изыск, утонченную иронию, элегантную просвещенность, которые, в сочетании со склонностью автора к стилистическим и смысловым парадоксам, к образным перевертышам, оригинальному ритмическому рисунку, представляют собой литературное явление, которое на сегодняшний день по праву можно назвать «стилем Радашкевича».
|