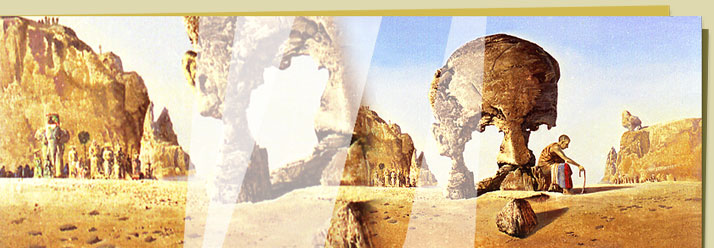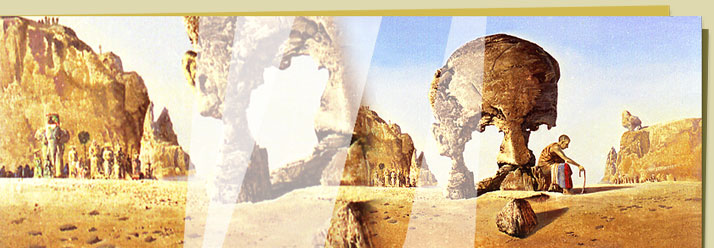Алексей Кривошеев. НА ВСТРЕЧЕ С ПОЭТОМ

Александр Радашкевич. Редакция еженедельника "Истоки".
Уфа, 29.VIII.2013. Фото А.Залесова.
Нашим, увы, редким встречам с поэтом Александром Радашкевичем неизменно радуюсь не я один. Есть небольшой круг друзей, с которыми он, наведываясь из Парижа в Уфу, встречается. Происходит это где-нибудь в кафе, на крыльце в яблоневом садике или на мансарде у какого-нибудь художника. И хотя 29 августа встреча с поэтом проходила в гостиной газеты «Истоки», она, однако, была почти полностью избавлена от докучного характера официальности, чуждой природе искусства. По крайней мере, все, что поэт рассказывал, было симпатично. Нет, привносились, конечно, и политические, так сказать, струи в русло встречи, не совсем неуместные в приличном поэтическом обществе людей. Некто, например, вкрадчиво посверкивая всеядной гремучей эрудицией, затеял, было, доискиваться до таких вычурных материй, как паспорт или удостоверение личности в их действительном по отношению к гражданину Франции различии.
Но наш поэт, давно и со вкусом проживая за границей, к чести своей то ли не слишком в этом разбирался, то ли вообще слегка презирал подобного рода тематику. О политике, как о сущем вздоре, он разговаривать не захотел. О своем долге перед миром поэт знал не понаслышке: «По прихоти своей скитаться здесь и там,/ Дивясь божественным природы красотам,/ И пред созданьями искусств и вдохновенья/ Трепеща радостно в восторгах умиленья». Подобным нездешним трепетом, запечатленным в блаженных стихах, искусство и питает, так сказать, наш тварный (материальный) мир – социум. Ведь даже звери заслушивались Орфеем. Совокупностью подобного рода усилий человечество, возможно, до сих пор еще живо. И если люди будут достаточно чуткими и мудрыми, то им посчастливится вместе с поэтом избавиться от информационного шума и мусора – и услышат они музыку сфер и тишину гармонии. В противном случае, дальше ознакомления с вожделенным содержимым социального пакета ожесточенные и несчастные не продвинутся.
Итак, сын военного офицера, Александр Радашкевич родился в Оренбурге, проживал в Уфе и Ленинграде, а в 1978 году уехал на Запад. Шесть лет он жил и работал в ненавистной ему Америке, в превосходной библиотеке Йельского университета (куда иногда приезжал поработать Солженицын) и был вполне обеспечен и благополучен. И все же Америку терпеть не мог и вскоре оказался в Париже. С конца 70-х Радашкевича стали печатать в русских эмигрантских журналах, а в перестройку и на Родине. Поэт с иронией рассказывает, что после публикации его стихов М. Дудиным он не успевал тратить деньги. Так много ему заплатили. За одну публикацию он получил целый годовой доход. Однако настигший всех дефолт превратил его три тысячи в три копейки. «Это остудило мое желание вернуться на родину», – признается Александр Павлович.
Уже проживая в Париже, Радашкевич испросил аудиенцию у Великого князя Владимира Кирилловича. Вместо чаемого получаса проговорили целых три... В то время в России сильны были монархические тенденции и делались попытки вернуть стране царский престол, царя и корону. В Ленинграде этим занимался Собчак. Радашкевич имел связи с российскими редакциями, достаточно хорошо знал обе стороны единой русской культуры и идеально подходил на роль дипломатической особы при Великом князе. Так он поступил на предложенную ему должность личного секретаря последнего из мужчин царской семьи.
Было сделано тридцать визитов в Ленинград-Петербург, Москву и по всей России. С монархией не получилось, князь вскоре умер. А Радашкевич уволился со службы, которой посвятил шесть лет, полных крайнего нервного напряжения. Остались контакты, появились деньги на жизнь. Приятель пригласил его в Чехию, где и прошли следующие четырнадцать творческих лет жизни поэта. Люди, старинный замок, ландшафт, самый воздух – все напоминало ему Родину. Но без ее недостатков. Лежа на даче, в гамаке меж двух яблонь, он по-прежнему сочинял свои надмирные стихи.
Список знакомств поэта интересен. В Нью-Йорке он пил вино с неизвестным тогда автором «Эдички», роман которого похвалил. Дружил с Одоевцевой и Померанцевым. Знался с людьми из княжеского окружения. Сегодня приятельствует с Б. Кенжеевым и А. Цветковым. Постоянный участник поэтических фестивалей. Побывал даже в Индии и в Иерусалиме: «Все в этом городе удивительно. Облака и те клубятся как-то по-особенному». Сейчас поэт снова живет в Париже. Слава Богу, говорит он, есть еще старая добрая матушка Европа. В воздухе там ощутимо разлита та особая священная культура, которая формировала высочайший человеческий дух европейца не одно столетие. Приобщившись к нему, поэт уже не хочет искать виды на другое место жительства.
Даже любовь к родной Уфе, куда он каждый год исправно наведывается и где до сих пор живет его старушка мать, не вернула его на Родину. Впрочем, Родиной, сформировавшей его личность, он считает Ленинград, а не Уфу. И мне трудно представить Радашкевича, поэта-джентльмена, исполненного внутреннего достоинства, сдержанного европейского лоска и редкой мужской элегантности, среди родных, любимых мною осин. Здесь он не вписывается ни в один из типовых коллективных персонажей. Трудно представить его среди людей орущих. («Урра!» из пасти патриота,/ «Долой!» из глотки бунтаря». Г. Иванов) Слишком отстранен он, независим и самодостаточен. И, несмотря на аристократическую мягкость, внутренне тверд, как кремнистый путь, по которому поэт идет в своем одиночестве «истинного музыканта».
То, что я здесь форматно излагаю о Радашкевиче, явствует уже из нашей встречи в гостиной «Истоков», из его не слишком пространных рассказов. О себе он говорит сдержанно (в самолюбовании его не упрекнешь) – больше внимания уделяет людям и странам, с которыми ему довелось познакомиться. Случались, правда, и казусы. Радашкевич вспоминает:
– Однажды три часа меня записывал на магнитофон покойный Саша Касымов. Когда стали прослушивать, оказалось, что в магнитофоне нет батареек. Еще как-то раз Айдар пригласил почитать стихи перед молодежью. И они обвинили меня в том, что я не пишу развлекательной литературы. Потом мы, правда, помирились. И в третий раз – Светлана Гафурова объявила, что хоть сам я не такой дурак, но стихи ей мои как-то не очень. А вот сегодня обошлось без «побоев».
Автор прочел девять стихотворений из новой книги «Земные праздники». В стихах, написанных в своеобразной стилистической манере (я бы назвал их надмирными), были, между тем, различимы мотивы об Уфе и о срыве в другую реальность, в частности, может быть, и об отъезде на Запад. Пересказывать стихи дело заведомо глупое, потому что невозможное. Тем более если они, как у Радашкевича, не развлекательные.
Вопросы публика задала следующие.
– Почему вы не любите Америку?
– Потому что она представляет собой полную противоположность всему, что мне дорого. Даже на долларе там написано: «На Бога уповаем». Произошла чудовищная подмена ценностей. И в улыбке, и в глазах у них – доллары. Слава Богу, на свете еще есть Франция, а у нас – выбор.
Следующий вопрос.
– А что, во Франции деньги отменили?
Радашкевич с усталой усмешкой:
– Ну вот, начинается. Денег не надо чураться, важно правильно к ним относиться.
– А разве у Франции с Америкой не единая политика?
– Тут дело не в политике. Люди во Франции – другие, ценности – культурные. Политика, к сожалению, одна – глобализация. Попытка все свести к общему знаменателю.
– А разве можно отделить людей от политики?
Радашкевич:
– Можно. Я, например, политикой не занимаюсь.
– Нет? А как же Тютчев?
Радашкевич:
– Тютчев на министерском заседании сочинял стихи и потерял портфель с секретными документами в Мюнхене.
– А почему вы не любите философию?
– Потому что я поэт. Я музыку люблю.
– Кажется, вы чего-то недопонимаете. Почти уже дошли до нужного уровня развития и остановились. Почему вы не философ?
Радашкевич:
– Потому что философия это игра ума такая. А я иррационалист, поэт.
– А почему у вас про Уфу стихи мрачные? «Обрыв» какой-то там?
– Ну, я вообще-то старался. Просто я меланхолик, так воспринимаю мир.
– Тяжелые у вас стихи. И почему зеркал у вас – три?
– Пусть это будет моим секретом.
– Что стоит посмотреть в Париже? Как насчет злачных мест? Где нам там искать продажную женщину?
Радашкевич:
– Ищите в Булонском лесу, ночью. Не ошибетесь. Одного нашего подвыпившего космонавта однажды там очень тепло встретили. Правда, потом в наше посольство (которое именно там) из леса он вернулся совершенно голый.
– А стоит ли посмотреть Сорбонну и Нотр-Дам?
– Обязательно посмотрите. В Сорбонне преподает моя бывшая жена, а Нотр-Дам украшают восхитительные химеры.
Слушая вместе с поэтом подобные вопросы, я невольно принимал его сторону.
Наконец утомленный недоразумениями автор, как милости, попросил чаю, и все с криками набросились на сладкое. Некоторое время поклонницы еще терзали поэта, чрезмерно томными, а то и откровенно игривыми голосами предлагая уфимскому европейцу тот или иной, рассеянный или обескураживающий фантастический вопрос. Но это продолжалось недолго. По крайней мере, в пределах нашего заведения.
P. S. А мы с Александром сошлись на Бродском. Он, правда, кажется, его совсем не любит. Но мне всегда нравился его поэтический индивидуализм советского периода, его тираноборческий культурологический сарказм и самоирония. Мне до сих пор нравятся его небольшие стишки и философская проза. Словом, ум его замечателен. А претят мне в Бродском его проамериканская, такая же насквозь бездушная и фальшивая, как и просоветская, идеология. А также его безразмерные, поздние вирши, с большой долей шелухи в жерновах вместо зерна. В своей слегка истерической англомании Бродский, чего доброго, в конце концов, пожалуй, опередил даже самих англоязычных авторов.
Информационно-публицистический еженедельник «Истоки» (Уфа), №35 (855),
4 сентября 2013 г.
|