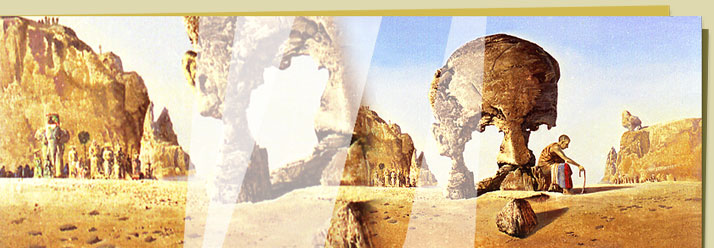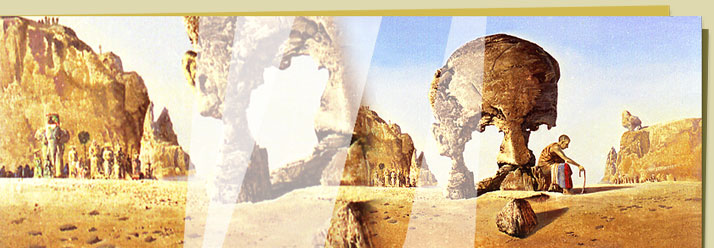Вальдемар Вебер. ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСЕДЫ. О поэтическом сборнике Александра Радашкевича «Ветер созерцаний»
Aлександр Радашкевич «Ветер созерцаний». Стихотворения. Алетейя, СПб, 2008–2009

После моего интервью с поэтом А.Радашкевичем в 50-м юбилейном номере журнала «Крещатик» (2010/4) почти все реакции читателей, дошедшие до меня в различной форме, касались тех мест нашей беседы, где речь шла о новых формах русского стиха, в частности, поэтики самого Радашкевича.
С одной стороны многим оппонентам, ценящим стилистическую раскованность поэта, чужда его традиционалистская духовная позиция. Новаторская форма требует по их мнению постмодернистского либерального (хотя что это такое, никто из них внятно выразить так и не смог) самосознания. Их письма напомнили мне статью одного очень известного критика, назвавшего однажды одного очень известного поэта верлибристом-почвенником, иронизируя над его якобы почвенными взглядами, «несовместимыми» с модернистской эстетикой его текстов. Для русского читателя понятная ирония. В Западной же Европе известного критика просто бы не поняли: в истории европейской литературы много примеров, когда консервативные взгляды и вкусы автора вполне сочетаются в его творчестве с формальными новациями, даже с радикальным авангардизмом.
С другой стороны тем моим корреспондентам, которых можно отнести к приверженцам культурной национальной преемственности или людям религиозным, непонятно, как можно писать о родине, о вере, о русской истории стихом неклассическим. С их точки зрения не русским, «декадентским». Да, именно это слово употребляют многие из читателей, столетней давности хулительный термин.
Словом, наша беседа практически не поколебала позиций сторон. Я попытался объяснить моим корреспондентам, что свободный стих Радашкевича, его интонация – это не рациональный акт, не попытка писать во чтобы то ни стало по-другому, – а природный ритм дыхания поэта. Его песни для тех, кому его пение близко, кто его слышит. Его манеру, его стиль надо принимать как данность, как голос поэта, не отделяя формы от содержания.
Слава Богу, А.Радашкевича миновала участь многих, бесповоротно занесенных в поэты-верлибристы. Какое чудовищное сочетание, и вообще: какое это уродливое по-русски слово: верлибрист! Поэт не может быть верлибристом, сонетистом или одистом. Он выбирает для каждого нового стихотворения ту форму, которая наиболее подходит к теме и поэтической мысли произведения.
Да, действительно, свободный стих доминирует в книге А.Радашкевича «Ветер созерцаний», полностью состоящий из новых стихотворений. Однако читатель встретит здесь и вещи, написанные классическим размером, рифмованные и нерифмованные, порой рифма используется лишь как одно из стилистических средств, она то пропадает, то вновь появляется, она не каркас здания, а один из элементов оркестровки. Но она никогда не декоративна, всегда функциональна, – подчеркивает, выделяет или несет на себе главную смысловую нагрузку.
Читая Радашкевича, совершенно забываешь о размере и рифмах, кажется, что присутствуешь при создании чего-то совершенно необычного, очень непривычного, и в тоже время очень гармоничного, проникаешься ритмом просторного стиха, и думаешь: вот он – белый из белых, как вдруг спотыкаешься на изломе ритма, заставляющего очнуться от опьянения этой иллюзорной плавностью, встряхивающего твое восприятие диссонансом неожиданной метафоры, непредвиденного эпитета или просто детали. Удивительное сочетание элементов традиционного стиха, стиха белого и ритмической прозы и есть волшебная музыка Радашкевича. Все писавшие ранее о стихах поэта (Н.Горбаневская, А.Илин, Б.Кенжеев, Г.Погожева и др.) под очарованием его музыкальности. Перекличкой звуковых, цветовых, эмоциональных ассоциаций эти стихи напоминают импрессионистические фортепьянные этюды.
Мы привыкли к «классическому» верлибру, построенному на четкой логике, со строгой скупой лексикой, прокладывающему себе путь напрямую, здесь же автор употребляет все регистры, в том числе и регистр отступлений, пишет как бы поэтическую прозу, но тут же c начала текста уходит от прозы и погружается в им самим же подготовленную для этого ухода свободную просодию, и невозможно не поддаться этому ритму, не подчиниться его власти. Но я не стал бы противопоставлять этот избранный поэтом для своего стиха способ говорения другим формам свободного русского стиха и утверждать, как некоторые рецензенты, что это чуть ли не единственная удачная попытка, когда русскому поэту удалось отказаться от классических оков и при этом сохранить лирическую силу. Не будем неблагодарными к памяти В.Бурича, Г.Алексеева, А.Метса, к работе многих живущих русских поэтов. Их опыты наметили пути для новых удачных попыток и удач.
Галина Погожева пишет: «Цитировать его (Радашкевича) – дело более чем неблагодарное: немыслимое, по сути, это всё равно что выдёргивать нитки из старинного гобелена, которые срослись в одну живую ткань».
Поэтому приведу стихотворение «Утреннее» полностью.
Опоры и содействия просит в нем поэт у Приснодевы и Христа. Как просится здесь на уста привычный ритм, интонация молитв, облаченных в классический стих, приуготовленная нам предыдущими авторами подобных произведений. И поэт отдает должное этому позыву, обращаясь в первой части стихотворения к посредству белого стиха:
Целуя звезду на плаще Приснодевы
и лоб прижимая к коленям Христа,
прорежется утро. А после – всё после:
сторонние люди, порожние полдни,
и было, что будет, и смылится мыло,
и небо прорежут косые морщин,
чтоб вновь, упадая до вогнутых круч,
мы рваные сны разводили руками,
чтоб как-то и где-то, за что-то-нибудь,
уст полуотверстых отнюдь не касаясь,
палили блаженства танталовых мук.
Но вот стихотворение переходит в настоящую молитву. И автор меняет ритм, уходит от классического размера, ибо нет ничего более естественного для молитвы, чем ритм речитатива:
...За тех, кто спит на свете
этом, за всех, кто жнет на бреге
том, за страх и сомненья, за светлые
рати, за маму и брата, за вражии
волжбы и даже, и даже, вотще
уповая, за русские дали
и детский народ...
Затем возвращаются описание и рефлексия, а вместе с ними ритм белого стиха со скрытой внутренней смысловой рифмой «дорог – слог» и звукописью шуршащих обволакивающих эпитетов:
Пылится дорога, пылит колокольчик,
надорванный серым кроссвордом дорог.
О чём он поёт, растревоженный
ельник? О чём замолчал откудесивший
слог? Все бури недвижны, все камни
как камни: текут ли иль дышат
в затылок шершавых постылых надежд,
чтоб снова легло оглашенное утро
обвалом обратным благих облачков,
целуя звезду на плече Приснодевы
и лоб подставляя ладоням Христа.
У Готфрида Бенна (1886–1956) есть стихотворение «Фрагменты». Начинается оно со слов:
Фрагменты,
выбросы души,
струйки крови двадцатого века,
рубцы – от нарушений кровообращения
у ранней зари творения
Фрагменты как жанр были «узаконены» литературой модернизма, а эпохой постмодернизма фрагментарность объявлена чуть ли не основным литературным принципом. У Радашкевича многое можно было бы отнести к этому «жанру», так как в некоторых своих стихах он явно рассчитывает на нашу способность к ассоциативному мышлению и чувствованию, а порой и переоценивает её, и не особенно посвящает в обстоятельства создания текста, в географию места и в биографию лирического героя. И все же даже такие тексты у Радашкевича производят впечатление завершенности, это всегда пьеса, имеющая начало, кульминацию и финал, земля в ней внизу, а небо наверху. И везде есть отсылка к реалии, позволяющая размотать ассоциативную цепь, прочитать символику, то есть понять поэтическую мысль.
В книге много посвящений дорогим автору людям, живущим и ушедшим, это своего рода беседы с людьми, посвящения, послания, напутствия, объяснения в любви и в тоже время полемика с ними в виде создания их портрета. Это стихи упования, они – о своих, о близких, о детях, о людях, о народе, обо всем и вся.
Поэт живет во Франции и Чехии. Но под многими стихами рядом с датой стоит Богемия – название Чехии как части Габсбургской империи в 1526 –1918 годах. Упрямое предпочтение древне-латинского названия Bohemia или немецкого Böhmen ни в коей мере не носит здесь характера имперского реваншизма, скорее это ирония в отношении иллюзорной веры в нашу власть над историей и, естественно, над временем. А также подчеркивание неизбывной связи с предыдущими культурными эпохами. Кстати, от Богемии произошло слово «богема». Цыган по-французски называют bohémiens – буквально «богемцы», жители Богемии, откуда в Средние века прибывало много цыган, становившимися в Париже и других французских городах актёрами, певцами и музыкантами. Иррационализм употребления А.Радашкевичем понятия «Богемия» насквозь богемен. В нем нет непочтительности. Так в своих ранних еще ленинградских стихах для обозначения любимого города поэт употребляет слово «Петрополь», а для Нью-Хейвена, где он жил в США – «Новая гавань».
Вспоминаю одну историю. В середине 80-х годов в издательстве «Радуга» я готовил к выпуску двуязычную антологию «Золотое сечение. Австрийская поэзия XIX и XX веков», в ней было много немецкоязычных авторов из Богемии, и я использовал в биографических справках именно это название данного региона. Редактор, готовившая книгу, упрямо заменяла его на «Чехию». Начальство ее поддержало. Запретило его как имперско-колониальное. Более того, редактор обвинила меня в пангерманизме. Человеку с моей фамилией противостоять подобным обвинениям в те времена было трудно, и я сдался. В книге о немецких авторах Богемии стоит, что они родились в Чехии. Это все равно что написать, что Катулл родился в Италии.
У поэта Александра Радашкевича, однако, исключительное чувство глубины времени. Вот он смотрит на фотографии нашей эпохи и видит, как они на его глазах превращаются в дагерротипы, или видит за вылетевшей из фотоаппарата птичкой грядущее прошлое тех мгновений, что были только что запечатлены на пленке.
У него свои отношения во временем:
«...Уходит то, что не пройдет,
и остается то, чего не будет...»
Или:
«И всякий день здесь только память
о памяти, забытой впрок!»
В стихах о России всплывают образы Европы, а в стихах о «беспамятном» Париже памятные реалии уфимского детства. Вот так и путешествует поэт «из той страны, которой нет, в страну, которой не бывало».
Вальдемар ВЕБЕР
(Аугсбург – Москва)
|