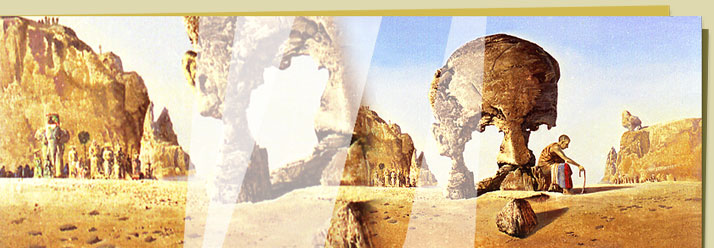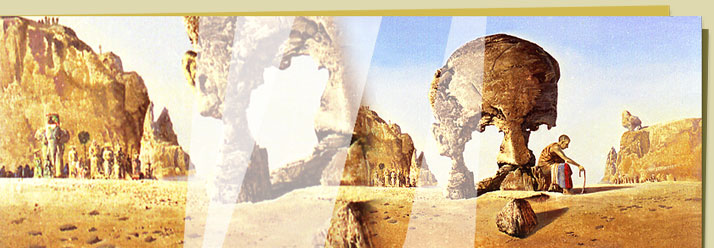Галина Погожева. О КНИГЕ СТИХОТВОРЕНИЙ АЛЕКСАНДРА РАДАШКЕВИЧА "ОНЫЙ ДЕНЬ"

Русская муза 70-х – 80-х годов нашего века, казалось бы, ещё такая молодая, на наших глазах становится прошлым, уходит в историю литературы. Что ж, может быть, теперь её, давшую на удивление много прекрасных имён, оценят по достоинству. В годы её молодости она не печаталась, чуть позже – печаталась вне России, и только сейчас, в общей лавине всего, что столько десятилетий не публиковалось, возвращается на родину, тут же попадая в жёсткие объятия демократии и рынка, вдобавок ещё в нашем российском их варианте. Стендаль когда-то начал один из своих романов с пророческих слов: «В двадцатом веке демократия неизбежно приведёт к господству в литературе людей ограниченных, мелких, и в литературном отношении – пошлых». Это сбылось, хотя и не совсем: то ли западные таланты открыли какой-то секрет, то ли научились бороться за существование, но они довольно часто всплывают на поверхность родных литератур и обретают заслуженный успех. А вот русская литература, секрета так и не открыв, приобретает в среднечитающих заграничных головах какой-то умопомрачительный излом: Толстой, Достоевский; Лимонов, Геннадий Айги.
Тем же из русских поэтов, волею судьбы оказавшихся на Западе, кому чужда всякая клоунада, самореклама, конструкция собственной известности и хождение с этой целью по салонам – я говорю о музе, следующей поведенческой линии Анненского, его поздне-осеннего «невозможно» – уготована густая тень, та же «белая угроза забвенья». И нет ни другого пути, ни места сожаленью – так хороша эта благоуханная тень сирени, яблоневых садов детства, старинных парков, уходящих корнями в прошлое, отзвук которого ещё различим в их листве. А у этой девицы тонкий слух, она очень хорошо – скажем прямо, с высоким профессионализмом, поёт, и рукоделие её тоже высший пилотаж. Так разве что послушница, полностью отрешась от жизни нынешнего века, вышивает плащаницу, никуда не спеша: впереди у нее вечность, и позади уже вечность, и безоблачная вечность над ней. Никто пока ещё не похвалил её, какая она умница, какое у неё примерное поведение и отличные отметки. Воспитанная в строгих правилах – в них воспитавшая сама себя, она, кроме звуков сладких и молитв, исполнила всей своей нелёгкой жизнью подвиг великого противостояния и не раз сменяла свою смиренную одежду на латы Орлеанской Девы.
И к тому же, не странно ли, что многие из этих принцев изгнания – поэтов нашего поколения – дети военных? Ну да, конечно, сравнительный достаток, счастливое детство, уроки музыки и французского; эту девочку водили за ручку по нарядным улицам столиц и щедро покупали ей книжки и игрушки, и когда на уроках пения все пели «мы пионеры, дети рабочих», она для вида только открывала рот. Но дедушка её был немногословным – привычка лагерей; зато бабушка рассказывала совсем другие истории, чем в школьных учебниках. Общеизвестно, что дети чаще всего урождаются не в родителей, а в бабушек и дедушек. Она, богатая наследница, единственная внучка, стала – но в этом также её большая заслуга – тем изящным, лёгким, позолоченным – пожалуй, даже и с завитушками – мостиком, связавшим едва не погибшее, уже ускользавшее из-под ног прошлое и такое хрупкое, младенчески беззащитное настоящее России, ещё не очень твёрдо обещающее жить.
Поэзия нашего поколения была мостиком, перекинутым над бездной. За ранние удачи заплатила она с лихвой всем своим одиночеством и бесприютностью, но всё, как молодая, с прямой спиной, таскает за собой свои потёртые саквояжи, в которых сложено всё, что собрала её благодарная память и что наработали её натруженные руки, которые теперь не стыдно предъявить ни плотнику, ни хлебопашцу. Другое дело – сам труд её; боюсь, что это невидимое неискушённому, воспитанному на броских красках, привыкшему скользить по поверхности глазу, платье короля – не для толпы, орущей, что король голый. Хотя на этот раз его сработали не плуты. Эта поэзия не для всех; она не подойдёт для школьных хрестоматий, будет недоступна для начинающих любителей или для «новых русских», не очень твёрдо знающих родной алфавит. Но для иных она может оказаться жизненной необходимостью.
Для тех, кто пропустил его публикации в периодике и единственный вышедший на Западе сборник и имени Радашкевич не знает, эта книга может стать драгоценным открытием: ещё одной звезды, ещё одной земли. «Но я зерно иной земли. Туда приблудшую армаду не изумит, что в гавани сверкает, встречая, алая толпа из королей, из королев…» Цитировать его – дело более чем неблагодарное: немыслимое, по сути, дело – всё равно что выдёргивать нитки из старинного гобелена, которые срослись в одну живую ткань. Недаром он назвал свою первую книгу: «Шпалера» (изд. «Руссика», США, 1986) – он владеет этим секретом необычайной тонкости работы минувших веков, когда на один такой ковёр уходила целая жизнь художника, а может быть, и не одна. Любая деталь под увеличительным стеклом являет ещё одну глубину, ещё оттенки. В этой многослойной сути чуть ли не бесконечность. Недаром европейцы с удивлением отметили, что в современной русской живописи превалирует figuratif, хотя и упустили то, что мельчайшая деталь выписывается с превеликим тщанием затем, что она есть символ, что это имеет место и в русской литературе, особенно начиная с Набокова, что это восстаёт из праха, из пылинок традиция, в которой вся наша жизнь и которой не нужна новизна, потому что она всегда нова, настолько она глубока. Это традиция Российской империи, где для того, чтобы быть художником, надо было пройти Академию художеств, а для того, чтобы быть поэтом, надо было быть им каждую минуту своей жизни.
Что до вечной новизны для русского уха свободного стиха, то форма для этого поэта не самоцель, и то и дело эту свободно льющуюся речь кладёт на музыку ни на минуту не покидающая его гармония. И то с собственной свободой, которой верховодит трагическая музыка бытия. Именно так он и живёт. Кто-то его завистливо пожурил: «Бессовестно быть таким русским». Пронося светлорусые кудри, такой чужой парижскому блеску витрин, но вот опять уже в полной гармонии со средневековыми камнями Сите, ради которых бежал он от Нового Света, из Новой Гавани, как он, не задумываясь, тотчас же по прибытии окрестил Нью-Хейвен, что, собственно, ведь так оно и есть. Серым солдатским глазом, подмечающим тончайшие оттенки, малейшие черты, он смотрит в суть явления, в самую сердцевинку. И этот огромный путь: провинция, где Ленинград казался мечтой, и вот мечта исполнена, и парки – и царскосельский, и павловский, и петергофский, где волны подкатывают под Монплезир, – и дальше, по воле волн: самодовольная Америка, жующая свой неперевариваемый и непереводимый chewingum, и Франция, прекрасная страна, так мало чтящая своих поэтов и королей, где в двух шагах от площади, где вечерами пугает призрак гильотины, я встречу его в доме Великого Князя – и это тоже годы назад, «когда мы только обвыкались с отвычкой жить». И теперь снова Россия.
И как-то встретят у нас эту поэзию, возвращающуюся домой из странствий с такими дорогими подарками?
ГАЛИНА ПОГОЖЕВА
Париж, 1997 г.
|