ИТАЛЬЯНСКИЕ НЕГАТИВЫ. Генуэзское кладбище
Схоластики интересовались вопросом,
сколько ангелов может поместиться
на острие булавки.
Из учебника средневековой философии
Никогда не думал, что так трудно писать. Легче таскать пятипудовые мешки. Да я их и таскал. Не мешки, а корзины с углем.
В Константинополе в 1925 году. Тогда мне было восемнадцать лет.
Я окончил среднюю школу и ждал визу во Францию. А в ожидании визы разгружал пароходы на угольном складе в Каракее, на Босфоре.
Счастливое было время! Угольные корзины на спине казались манной небесной: они приносили полторы лиры в день, хоть и весили по пятьдесят килограммов. Но что значат все килограммы мира в сравнении с восемнадцатью годами?
Я работал по десять часов. Затем бросался в Босфор, смывал с себя угольную пыль и перетасканные корзины, и возвращался домой.
«Эх, ты молодость, буйная молодость,
Золотая сорви голова!»
У меня никогда не болела спина от угольных корзин. А вот теперь перед каждой строкой, перед каждым словом моих итальянских воспоминаний – хоть выходи на улицу и вой.
И вовсе не потому, что хочется написать с каким-то вывертом, не так, как другие. Не до вывертов в наше время, и какое мне дело, как и о чем пишут другие: «Что у кого болит – тот о том и говорит!»
А болит у меня весь мир. Я болен всем миром, и весь мир болен мной. Каждым из нас.
Ну, а кто не болен миром, значит, тем не нужен мир и они не нужны миру.
Оставим их:
«Пусть доживут свой век привычно».
Но какое это имеет отношение к Италии, к автостраде Милан-Генуя, к начинающему тускнеть небу, к обрывающимся каплям дождя? Да такое, поймите меня (хорошо поймите), что везет-то мой мотоциклет целую человеческую судьбу, и одному Богу ведомо, чего только там нет, в мешке этой человеческой судьбы: и корзины с углем, и стрекоза в папиросной коробке, и букет красных гвоздик, и клочья желтой пены, и снежный пролог, и разговор в ресторане, и несостоявшееся свидание (единственное настоящее), и цепь цветных воплощений, за обрывающимися каплями дождя. Все летит, все несется по стальному асфальту автострады.
Подсевший ко мне в Сузе поэт-философ, кинооператор Марк, Раскольников со Свидригайловым, студентка-шведка – все они примостились на мотоциклете: все сразу, все вместе – много ли человеку мотоциклета надо?
Теперь я уже не один. Теперь я не одинок. Теперь я во всем моем человеческом богатстве. Теперь я сразу – в настоящем, в прошедшем и в будущем. Теперь я и мгновение – одно! А мгновение – это вечность, сказал Гете – мы обязаны верить Гете…
Главное же – это дождь. Он еще не идет. Иногда срываются отдельные капли. Им надоело висеть между небом и землей. Им захотелось воплотиться и упасть на зеленую траву. Когда мне было два года и я только начинал говорить, я почему-то все повторял: «Хотю зеленой тлавки…»
Родители улыбались, вели в сад, но ничего не понимали. Я тоже ничего не понимал.
Теперь я знаю, почему мне хотелось «зеленой тлавки»: я соскучился по зеленой траве.
У мотоциклета много преимуществ. Разве его можно сравнить с автомобилем? На мотоциклете все видно – и справа и слева, и снизу и сверху. На мотоциклете все переживается по-особенному. Вы становитесь скоростью и безумием. В вас въедается ветер, в вас влюбляется солнце. Мотоциклет – это молодость.
Детская коляска,
велосипед,
мотоциклет,
автомобиль…
Дроги.
Пять этапов, пять вех человеческого бытия.
Еще в прошлом году был мотоциклет…
Не выносит мотоциклет только дождя. Дождь это злейший враг мотоциклета: шины скользят, каждая капля – булавка: словно тысячи сестер милосердия вонзают в вас тысячу отвратительных шприцев.
Ничего не поделаешь, приходится останавливаться, вынимать противодождевую броню.
– Слезай, мотоциклетная братия!
Но дождь не пошел. Не захотел. Может быть, не смог. У дождя тоже свои капризы, свое подсознанье.
Дорога проходила на возвышенности и отделялась от остального ландшафта широким белым парапетом. Я поставил мотоциклет и решил позавтракать. Рановато – всего десять часов. Но какая в этом беда? Хуже, что холодно, не по-итальянски.
– Во сне всякое бывает. Во сне и Италия бывает не итальянской, – дидактическим тоном заметил Марк. До чего я не выношу этот дидактически-покровительственный тон!
– А вам откуда известно, что Лин еще спит? Это случилось всего раз, когда она отсыпалась после экзаменов. Потом, насколько помню, вы ее бросили.
– Надо всегда вставать рано. Мир принадлежит тем, кто встает рано, – вмешалась шведка.
– Не повторяйте избитостей! Скажите лучше, вы знаете Геную?
– Я там жила, когда ее завоевали французы. Это было в 1527 году. Жаль, что к этому времени вас уже не было в живых. Вы скончались ровно сто лет назад. Но это неважно. Мы пройдем на кладбище, и я покажу вам вашу могилку. Подумайте только, какая поэзия: постоять на своей собственной могиле, над своими собственными костями! С кладбища я поведу вас в Сан Маттео. Там до сих пор висит меч, подаренный Папой Павлом III адмиралу Андреа Дориа. Да и сама церковка преочаровательна… Хорошее тогда было время. Жаль только, что недолго длилось. Вскоре у Дории умер брат аббат, оставив огромное наследство, и Папа потребовал наследство себе: аббатство без наследства – мертво есть. По Писанию. С этого все началось и уже продолжалось до самой смерти. С удовольствием похожу по родным когда-то местам…
– А как вы думаете, – спросил Раскольников, – литературные герои, будучи своего рода вымыслом, тоже перевоплощаются?
– Ваш вопрос не имеет существенного значения, – ответил Свидригайлов. – Мы с вами временем не ограничены и, как вам известно, не стареем. Пройдет еще сто лет, и вы, Родион Романович, останетесь таким же молодым человеком, как и теперь, каким были и в Петербурге, когда, помните, «в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер», вы, выйдя из своей коморки, которую нанимали у жильцов в С-м переулке, медленно, как бы в нерешимости, отправились к К-ну мосту».
– Я не о том спрашиваю, – с досадой перебил Раскольников. – Я спрашиваю, существовали ли мы до Достоевского?
– Иными словами, – вмешался Марк, – вас интересует, почему вы убили старуху. Я говорю, конечно, не о вашей идее, а о том, почему она у вас появилась. Появилась именно у вас, а, например, не у господина Свидригайлова. Почему именно вы почувствовали непреодолимое желание, своего рода обязанность кровно рассчитаться со старухой.
– Или связаться, – словно автоматически продолжал Свидригайлов…
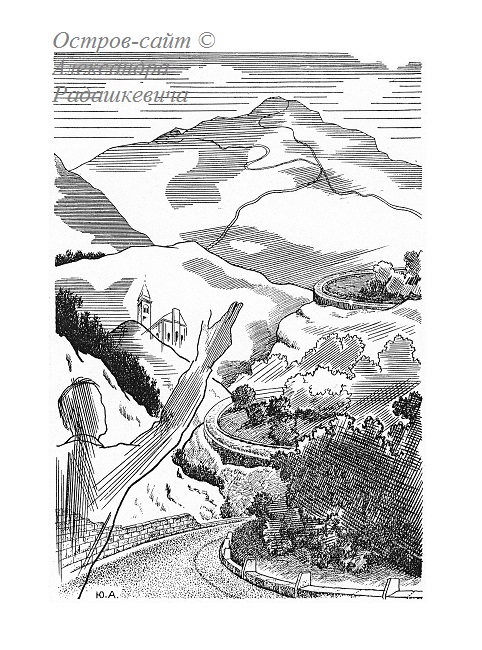
Рисунок Юрия Анненкова.
Дождливый туман давно рассеялся, и над Генуей стоял неумолимый итальянский день. Огромное кладбище жалось резным мрамором гробниц, темной зеленью кипарисов, застывшим отчаянием мраморных фигур. Некоторые памятники были миниатюрной копией готических соборов, другие дворцами, третьи фантастическими сооружениями с сонмом ангелов и святых, то ли принимающих душу покойника, то ли провожающих ее в новую жизнь.
Но вечного покоя не было. Вокруг меня сверху и снизу выла буря, стоял безысходный человеческий стон.
Нет. Баратынский никогда не был на кладбище!
Я остановился в нижней части города, возле порта, на самой дороге, идущей через Геную на итальянскую Ривьеру. Мне кажется, что я никогда не видел такого движения, столько автомобилей, такую шумную и пеструю толпу. Цветные автобусы и легковые машины с цветными иностранцами, как вагоны нескончаемого поезда, тянулись один за другим. Между ними в двух направлениях протискивались трамваи, между трамваями – еще автомобили, между автомобилями – мотоциклисты, между мотоциклистами – велосипеды и, властвуя всей этой неразберихой, зажигались фонари: зеленый, желтый, красный.
Генуя мне не понравилась. Быть может потому, что, боясь не найти комнату, я бросился в первый попавшийся отель. А отель оказался на редкость пакостным: огромная, серая, почти в пятьсот комнат казарма, переполненная туристами, все больше стадными, с проводниками и переводчиками, занимавшими сразу целый этаж.
Я в нем растворился, потеряв моих дорожных спутников, – не под силу оказалась им эта казенщина, этот жуткий железо-бетон.
Я и на кладбище-то пошел с надеждой, авось кого встречу. Но и там никого не нашел. Какая-то итальянская семья – папа, мама и девочка лет десяти – поднимались вверх по крутой дорожке в поисках могилы какого-то именитого покойника, совершенно не предполагая, что сам покойник, в это самое время, отчитывается за свои похождения перед судьями Тананарива, которых он, во время Дории, заманил хитростью в засаду, а затем сгноил в генуэзской тюрьме.
Бог с ними! Мне бы отыскать свою собственную могилку, постоять над своим собственным прахом, встретиться со своей собственной судьбой…
Но кто теперь меня поведет? Кто шепнет мне хоть одно слово? Кому теперь нужен я, с моим мотоциклетным одиночеством? Мои дорожные спутники остались в отеле, забились в каменную муку его стен.
С кладбища вернулся часа в четыре, поставил мотоциклет в гараж и решил пойти наверх, в город, уже пешком. Передвигаться, даже мотоциклетом, было невозможно: автомобили, заторы, красные огни – весь арсенал моторизованного благосостояния, предельная мечта составителей очередной программы КПСС!
Добрел до виа Гарибальди. Потом узнал, что это одна из достопримечательностей города, почти сплошь состоящая из дворцов: палаццо Дория, палаццо Россо, палаццо Бьянко, палаццо Кастальди…
Зашел в Россо. Теперь там музей: ван Дик, Караваджио, Рубенс, Веронезе… Напротив какое-то консульство. Два полицейских у входа, вдоль здания дорогие иностранные автомобили. Чуть дальше кондитерская.
Я вошел в кондитерскую, сел за столик и попросил фисташковое мороженое и рюмку коньяку:
«Явись, явись, возлюбленная тень…»
На обратном пути уже вечерело. Движение и толпа стали абсолютно непреодолимыми. И в торговых кварталах Парижа, в часы разъезда, я не видел столько людей, столько автомобилей.
Даже двадцать пять лет назад, возвращаясь серой ноябрьской ночью, после последней встречи с Лин, я не чувствовал такого одиночества. Даже тогда, той промозглой парижской ночью, мне не было так холодно, – холодно от человеческого холода.
Генуя великолепная! Генуя тысячелетняя!
«Мосты» (Мюнхен), 1963 (№ 10).

Кирилл Померанцев. Перевал Галибье в Альпах, 1958 г. Публикуется впервые.
|

