СКВОЗЬ СМЕРТЬ. Марк Шагал

Марк Шагал шагал по небу,
В небе Млечный Путь,
Только черту на потребу
Творческая муть.
Юрий Одарченко
Старинный дом на набережной Анжу, в «Сите», самом центре Парижа. Здесь все – история: Дворец правосудия, Святая Капелла, Консьержери… Казнь Марии-Антуанетты… Людовик Святой… Собор Парижской Богоматери… Квазимодо… Виктор Гюго…
На доме мраморная доска: «Здесь в 1640 году скончался оружейных дел мастер…». Имя и фамилия. Но не все ли равно?
Окна дома выходят на Сену, в ней уже перевернут вечереющий город. Еще раз смотрю на доску, на набережную, на кривляющиеся в воде пятна…
Остановиться на мгновенье,
Взглянуть на Сену и дома,
Испытывая вдохновенье,
Почти сводящее с ума…
Георгия Иванова среди нас уже нет. Помню, мы шли с ним по этой набережной лет десять назад и он читал мне эти строки…
Поднимаюсь на второй этаж, звоню…
На Шагале коричневые бархатные брюки – такие носят савойские крестьяне – оливковый свитер, желтая с расстегнутым воротом рубаха.
– Никогда не любил одеваться. Для меня это настоящая мука, да и одевался плохо, – как-то пожаловался он.
Комнаты большие, светлые, стены белые, совершенно пустые, ни картин, ни фотографий. В окнах – Сена и в ней перевернутый Париж…
В первой комнате большой старинный – из одного куска – стол. На нем блюдо с фруктами и ваза с цветами: белая и лиловая сирень, тюльпаны. Несколько мягких стульев…
Шагал садится за стол напротив меня. Начинается допрос.
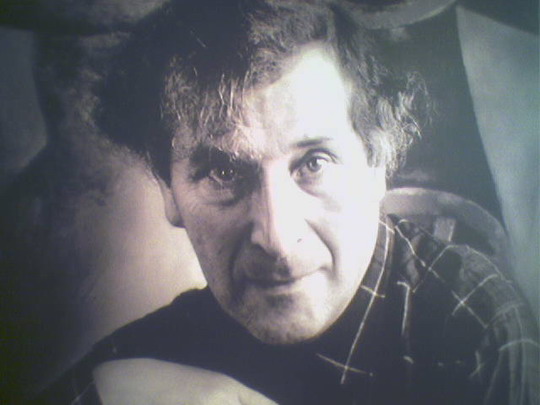
– Мое первое впечатление от жизни? Я прежде всего не хотел жить, ощущал себя мертворожденным… Вообразите белый пузырь, которому не хочется жить… Как будто его набили картинами Шагала!
– Ваши родители – мать, отец?
– Что мой отец? Что стоит человек, если он ничего не стоит. Мне трудно подыскать для него нужные слова. Он поднимал тонны бочек с селедками, грузил их на автомобили, в то время как его толстый хозяин стоял в стороне, как набитое соломой чучело… Потом его раздавил автомобиль… Только теперь я понял, что это был святой человек…
Как трудно говорить о прошлом! О прошлом можно только плакать… Помню речку, бегущую вдаль, мост, забор, вечный забор, за ним вечный покой, земля, могилы…
Вот моя душа, ищите меня здесь. Здесь, в них, в воспоминаниях, все мои картины. Грустно, грустно…

Марк Шагал. Голубой дом
Помню еще: вечер, лавка уже закрыта, дети вернулись из школы. Отец устало облокотился о стол. Лампа мирно отдыхает, стулья скучают. Никто уже не знает, где за окном небо, куда девалась природа. Все тихо, неподвижно. Мать сидит перед печкой, одна рука спрятана где-то в ней… Все мне было передано через нее. Как часто она говорила: «Да, сынок, вижу, что у тебя есть талант. Но послушай меня – может, лучше тебе стать рассыльным? Мне, право, тебя жаль… Откуда это у нас?»
– А как другие относились к вашему таланту?
– Другие? – переспросил Шагал, как бы не услышав вопроса. – Дед был мясником. Он с бабушкой плохо ценил мое искусство, в котором все наоборот и все так непохоже. Зато он очень дорого ценил мясо. Но я обязан и ему: в хорошую погоду дед забирался на крышу, цеплялся за трубу и лакомился там морковью. И вот, представьте себе, некоторые критики с радостным облегчением видят в этих невинных развлечениях деда разгадку моих картин! Но здесь все же есть доля правды: мое искусство не играло никакой роли в жизни моих родственников, зато их жизнь оказала большое влияние на мою живопись.
Был еще дядя-парикмахер. Он меня стриг и брил с безжалостной любовью и даже – единственный – гордился мною. Когда же я написал его портрет и подарил ему, он бросил взгляд на полотно, потом посмотрел в зеркало на себя и сказал: «Ну, нет, храни его сам!»
Так же смотрел на мои упражненья и отец: «Восемь душ детей на руках и никакой помощи!»
Я глотал слезы, думая о моих бедных картинах, о моем будущем, о моем таланте. Меня душил поднимающийся от горячей воды, смешанный с запахом мыла и соды, густой, липкий пар…

Марк Шагал. День рожденья
– Неужели никто не понимал вашей живописи? Никто?
– Искусство это тайна. Иногда мне кажется, что я сам не понимаю людей и еще меньше мои собственные картины… В первый год революции я основал в Витебске «Академию художеств» и стал ее директором и председателем. Как-то по делам Академии меня принял Луначарский. Я слышал, что он марксист, но мои знания марксизма ограничивались тем, что я знал, что Маркс был евреем, носил большую бороду и что моя живопись никак с марксизмом не уживалась. Я сразу отрезал Луначарскому: «Главное, не спрашивайте меня, почему я пишу зеленым или синим и почему в коровьем животе виден теленок и еще что-то вроде этого. Впрочем, я бы очень хотел, чтобы Маркс воскрес и все объяснил…» Луначарский смотрел на меня с изумлением, если не с испугом. Он, наверно, думал: «Почему его корова зеленая, а лошадь улетает в небо? Какое все это имеет отношение к Марксу и к Ленину?» Но он молчал. Он был неглупым человеком…
Вы спрашиваете – понимал ли кто-нибудь мою живопись? Мне казалось, что люди не понимают природу, не видят окружающие предметы, или видят в них не то, что видит во много раз лучше простой фотографический аппарат…
– Марк Захарович, я бы хотел…
– Знаю, знаю: вы хотите задавать вопросы, спрашивать, как все журналисты: как я смотрю на живопись, что я думаю о красках… А что я вам отвечу? Для этого и рассказываю свою жизнь, как я родился и каким я родился… Русская живопись, особенно передвижники, мне всегда были чужды. Я их не понимал. Не моя вина, что я не вижу жизнь, как фотографический аппарат… Если русские художники и должны были стать учениками Запада, они, мне кажется, оказались, в силу их собственной природы, не очень верными учениками. Лучший русский реалист шокирует реализмом Курбе. Самый настоящий русский реализм озадачивает, в сравнении с реализмом Моне и Писсарро…
А вот Пикассо. Когда я в первый раз попал в Париж и познакомился с Аполлинером, который меня со всеми и перезнакомил, то как-то за завтраком я его спросил, почему он не представит меня Пикассо. «Пикассо? Вы разве хотите покончить жизнь самоубийством? Все его друзья кончают самоубийством», – ответил Аполлинер, как всегда, улыбаясь.
Но это между прочим… Воспоминания… Простите…
В Париже, в Лувре, перед полотнами Моне, Милле и других я понял, почему не осуществился мой союз с Россией и русской живописью и почему им был чужд даже мой язык… В России я всегда был с боку припеку. Все, что я делал, им всегда казалось странным, все, что делали они, я считал лишним. Мне больно об этом говорить… Ведь я… люблю Россию…
И после небольшой паузы:
– Но, увы! Я не был нужен царской России и еще меньше теперешней, советской…
Опять пауза…
– Вы бывали на выставках советских художников? Видели их картины? Там все точно, все на месте. Все словно циркулем размечено… Я видел вчера американский фильм: прерии, леса, водопады. А краски-то, краски! Никакому художнику не снились. А как выбран пейзаж, как снято! Загляденье! Но это фотография, хотя и замечательная фотография. Живописи в ней и не ночевало. Я и в детстве такой живописи не понимал. Живопись – не внешний мир, а внутренний, «вещь в себе», недоступная никакой философии и уж тем более фотографическому аппарату.
– А импрессионизм и кубизм?
– Они мне так же чужды, как и реализм советских художников. Когда я смотрю на ухищрения кубистов, я думаю: «Ешьте сами ваши квадратные груши, садитесь сами за ваши треугольные столы!» Для меня искусство – это прежде всего душевное состояние. Всякая же душа свята, душа каждого человека, в какой бы части света он ни находился. Свободно одно лишь честное сердце, у него свой ум и своя логика. Помните Паскаля? Уже примитивное искусство обладало таким техническим совершенством, к которому, жонглируя и ковыляя, еле-еле подходят современные художники. Весь этот формальный багаж мне представляется богато облаченным римским папой, стоящим возле полунагого Христа, или расписанной сверху донизу церковью около молитвы в чистом поле.
Меня называют фантазером. Почему? Я стопроцентный реалист. Я люблю землю.

Марк Шагал. Окно на даче
Шагал задумывается. Букет сирени преображает заходящее солнце. Я, наконец, решаюсь задать давно подготовленный вопрос:
– Марк Захарович, один из старейших советских живописцев, К.Юон, сформулировал, по его собственным словам, «отличительные черты, характеризующие искусство социалистического реализма». Мне бы хотелось знать, что вы думаете о некоторых из этих формулировок. Первая из них – «полное единство содержания и вытекающей из него художественной формы».
– Прежде всего, неправильно сформулировано: сначала краски, красочный образ. В Евангелии сказано: «В начале было Слово…» Когда появляется это слово, или краски, то все остальное только прилагается, творится само собой. Творчество есть б е з у м и е . «Единство содержания и формы» хорошо для автомобиля или самолета. Но уже не годится для ковра-самолета. Искусство не техника. Я никогда не считал, что технические тенденции в искусстве могут привести к чему-либо путному.
– Во второй говорится о «волевом характере советской художественной культуры».
– Это просто глупо. Я не отрицаю наличия волевого момента в советской живописи. Он там налицо. Но он-то и привел ее к антихудожественности. Волевой момент проявляется в красках, таится в их природе. Когда художник творит, он творит всем своим существом, а не только одной волей. Воля же воплощается в красках, а совсем не в том, о чем думают советские теоретики.
– В третьей настаивается на «изжитии противоречий между художником и зрителем».
– Подлинное творчество всегда таково, таковы же и подлинные слова и подлинные краски. Прежде всего, не дело художника «мудрствовать лукаво», не мудрствовать, а творить. Тогда и его творчество будет всем доступно и всем понятно. Советские художники жестоко ошибаются, когда считают, что именно их картины – картины «социалистического реализма», всем доступны и понятны. Повторяю, они доступны и понятны, но только как грубая копия внешней природы, как убогое подражание цветной фотографии. Но как художественное произведение, как то, что раскрывает сущность человеческой души и с нею всей нашей эпохи, они никому не понятны, никому ничего не говорят и не дают, вот точно, как цветастые обои.
– Четвертая подчеркивает «содержание и идейность, составляющие как изначальный момент творческого труда, так и его конечную цель…»
– Я ровно ничего в этом не понимаю: я максималист. Для меня искусство это все, и содержательность, и идейность, и начало, и конец. Еще раз – творчество это б е з у м и е . Творчество это вечная революция. Ленин перевернул вверх ногами Россию, я переворачиваю вверх ногами мои картины… Это, во-первых, а во-вторых, – идея, проводимая в философском труде, и идея, воплощающаяся в произведении искусства, два совершенно разных явления. Боюсь, что Юон их спутал или, вернее, их не различает.
– В одиннадцатой требуется «простота и доходчивость языка искусства».
– Об этом уже заботился Курбе. Он в свое время даже проповедовал социалистический реализм. Но что из этого получилось? Доходчивость и простота осуществляются отнюдь не потому, что этого требует та или иная школа, но вопреки этому требованию. Не думаю, чтобы Рембрандт стремился к доходчивости своих картин. Вообще, требования исходят от самого искусства и от самого художника: «ты сам свой высший суд!» – золотое правило. Вспомните Пушкина: он оказался самым доходчивым из русских поэтов и таковым останется на века. А что он писал в «Черни»?
Молчи, бессмысленный народ!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Тебе бы пользы все! На вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей есть бог!
Искусство есть Бог. Какие же о нем могут быть рассуждения, да еще ученые?.. Если же они существуют, то в значительной степени потому, что мало кто понимает, что такое красота.

Марк Шагал. Роспись плафона Гранд-опера в Париже
– Еще один вопрос, Марк Захарович, и перестану вас мучить. Советские теоретики определяют советское искусство как «искусство национальное по форме и социалистическое по содержанию».
– Конечно, да! Всякое искусство национально. Разве моя живопись не национальна! Разве вы не чувствуете моего родного Витебска в моих картинах? Разве можно оторвать живопись Ватто от Валансьена или Ван Гога от Голландии? Вот только мне кажется, что советская живопись не национальна. Разве может быть национальной фотография?
Я поднимаюсь. Марк Захарович предлагает мне приносить ему для «профессиональной шлифовки» мои статьи о живописи.
Уже в дверях:
– Вы бы хотели повидать Витебск?
– Хотел бы… Но вот – я еду завтра в Швейцарию, ездил в Соединенные Штаты, в Грецию, в другие страны, ездил, как к себе домой… Но ехать в Витебск, в мой родной Витебск, в свою страну, ехать, как турист, а перед этим выклянчивать визу… Не могу. Слишком тяжело…*
Я вспомнил: «О прошлом можно только плакать…»
Когда я вышел, было уже почти темно. Прошел несколько шагов по набережной, обернулся…
Остановиться на мгновенье,
Взглянуть на Сену и дома…

———————
* Позднее Шагал все же побывал в СССР, хотя в «родной Витебск» его так и не допустили…
|

